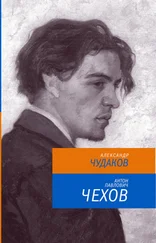Методология Г. Н. была основана на жесткой системе терминов; его первые лекции по курсу теории литературы были целиком посвящены терминологии; своих учеников он безжалостно заставлял делать второй, третий, четвертый варианты дипломов и диссертаций, если усматривал там какие-либо вольности. Об этом он сам ясно и откровенно сказал в беседе с В. Д. Дувакиным в 1980 г.: «Я никогда никаких терминологических отступлений никому не позволяю. <���…> Не прощаю» ( Тимофеев Л. И., Поспелов Г. Н. Указ. соч. С. 83).
Видимо, я слишком рано испорчен работами Тынянова, Эйхенбаума, Шкловского – вся эта игра в термины казалась мне страшной схоластикой; подготовка к экзамену по теории литературы превратилась в мученье.
Вульгарный социологизм разлива 30-х годов пышным цветом доцветал в лекциях Р. М. Самарина. В упомянутых сборниках он квалифицируется как «блестящий лектор и уважаемый профессор», о нем вспоминают «с благодарностью», он «любил студентов и хорошо их помнил». На одной из лекций мы послали ему записку: «Как объяснить то, что Сервантес и Лопе де Вега, жившие в страшную эпоху истории Испании, создали такие великие произведения, подобных которым не было больше в испанской литературе в самые прогрессивные эпохи?» Р. М. сказал: «Написавшие записку о Сервантесе подойдите ко мне в перерыв». Зная о памятливости профессора и некоторых деталях его биографии (только что вернулся из заключения проф. Ф. П. Шиллер, посаженный, как говорили, по доносу Р. М.), мы, конечно, не подошли. (Замечательной памятью на лица, имена и отчества обладал также Я. Е. Эльсберг.)
Но дело было даже не во всем этом, а в том, что Самарин был просто плохой ученый. Лекторские способности не всегда совпадают с содержанием излагаемого. Неважным лектором был великий лингвист Ф. Ф. Фортунатов; лекции П. С. Кузнецова часто переходили в малопонятный комментарий к его записям на доске праязыковых форм. Мне запомнилась только одна лекция Р. М. – об Эжене Потье. Автору «Интернационала» она была посвящена целиком. «А что можно было говорить о нем полтора часа? – спросил у нас живший тогда в общежитии главного здания Жан Торез, сын генерального секретаря французской компартии, бонвиван и плейбой. – И сколько же тогда ваш лектор говорил о Малларме?» – «Нисколько». Кто-то из студентов, пришедших навестить больного Р. М., увидел у него на ночном столике томик Рильке. Хочется сказать: тем печальнее.
Балласта среди профессорско-преподавательского состава было немало. На мой взгляд, это прежде всего С. И. Василёнок, Н. А. Глаголев, А. С. Дмитриев, А. И. Метченко, К. В. Цуринов, П. Ф. Юшин, более 20 лет возглавлявший факультетскую парторганизацию. И балласт этот был далеко не безвреден – и не только в научном отношении. Говорили, что по доносу С. И. Василёнка посадили Костю Богатырева.
На факультете были популярны В. Д. Дувакин с курсом по Маяковскому, но больше по русской дореволюционной поэзии XX в.; блестящий знаток всего В. В. Иванов, который на занятиях в нашей группе по общему языкознанию мог к случаю процитировать строчку из Пастернака. В связи с Пастернаком он был позже с факультета уволен, говорили: за то, что водил студентов к опальному поэту. Популярен был и А. Д. Синявский. Я на его лекциях не бывал, но когда через много лет прочел его «Прогулки с Пушкиным», нашел там много мыслей, хорошо знакомых мне по лекциям С. М. Бонди, книгам Б. В. Томашевского и А. Л. Слонимского, – учителя у нас были общие.
Из самых сильных впечатлений первых лет – обсуждение романа B. Дудинцева «Не хлебом единым» в Коммунистической аудитории, на котором будущий известный германист Гриня Ратгауз сказал: «Советская литература была литературой большой лжи, а теперь она становится литературой большой правды». И закончил выступление словами Гейне: «Бей в барабан и не бойся!»
На первых курсах я больше всего слушал Сергея Михайловича Бонди – общие курсы, спецкурсы по стиху, «Евгению Онегину», теории литературы и лирике Пушкина.
Бонди исходил из презумпции, что студент не знает ничего. Например, не помнит, кроме хрестоматийных, никаких стихотворений Пушкина – и не верил, что кто-то следует его совету «перечитать Пушкина». И в лекциях рассказывал всё, ничего не опуская. Можно было даже слегка обидеться (говорю о своих ощущениях). Но потом я понял достоинства подобного метода: это была система, выстроенная полностью, без всяких пропусков, отсылок и подразумеваний; в ней были эксплицированы все ячейки, все звенья и уровни; так подробно осветив нечто, лектор может идти дальше, будучи уверен, что предыдущее слушатели знают не все по-разному, с пробелами и провалами, а – после его лекций – примерно равно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
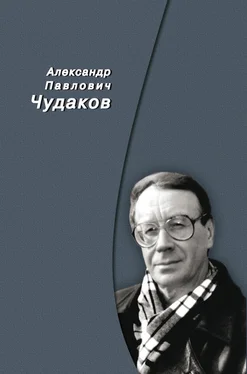
![Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание]](/books/24881/aleksandr-chudakov-lozhitsya-mgla-na-starye-stupeni-thumb.webp)