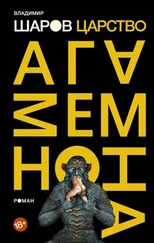Двадцать третьего июля, когда я уже прощался, Дуся вдруг заявила, что дней через десять собирается ехать на Медвежий Мох, хочет побыть на могиле Сережи. Я не стал говорить, что она не в том состоянии, чтобы шастать по трясине, что вчера для нее и до уборной дойти было проблемой, просто отмахнулся, вяло, как о вещи само собой разумеющейся сказал, что сейчас, летом, болото не пересечь. Тридцать километров по непролазным топям не пройдет и спецназовец. Однако добился немногого. Единственным результатом стал новый цикл допытываний, правда ли, что Сережа умер естественной смертью.
Дальше три дня подряд с утра до позднего вечера она звонила и звонила по телефону, то требуя, то так непохоже на себя жалостливо прося, плача, чтобы я провел ее через Медвежий Мох. Она находила меня дома, на работе, в гостях и, не слушая объяснений, что болото летом непроходимо, что до острова, на котором жил Сережа, можно добраться лишь зимой – сейчас пройти пятнадцать километров туда и пятнадцать обратно бездонной трясиной нечего и думать – повторяла, что иначе нельзя. Дуся буквально брала меня измором, и в конце концов я не выдержал, сказал, что ладно, если она настаивает, постараюсь помочь. Судя по всему, пока ничего другого ей было не надо, и телефон замолчал.
Стоило прерваться безостановочному перезвону, я сообразил, что упиралось, в сущности, зря. Свой «запорожец» к тому времени я уже продал, получалось, что до Аникеевки придется добираться на перекладных. Пять часов в общем вагоне до Ржева, потом шесть часов рабочим поездом до разъезда Конюхово и, если не подвернется попутка, еще десять километров пешком до деревни Акимыча. Но сейчас мне это было на руку. Я понимал, что чем быстрее Дуся выдохнется, тем и для нее, и для меня будет лучше. Пока же я продиктовал ей, что надо взять с собой, и мы договорились, что 8 августа встретимся в зале ожидания на Рижском вокзале за час до отхода вечернего поезда на Ржев.
Дальше я получил недельную передышку. Лишь накануне, 7 августа, она позвонила мне, чтобы подтвердить, что уговор в силе, а заодно, ликуя, сообщила, что пыталась связаться с пятью десятками людей, и вот все, кого она застала в Москве, без единого исключения заявили, что тоже хотят ехать с нами. Некоторые сказали, что возьмут и детей, так что, по ее прикидкам, может набраться душ семьдесят, а то и восемьдесят. Новость я выслушал спокойно, в первую очередь меня волновала сама Дуся, что же до остальных, то посчитал, что, если тут всё уладится, ее паства особых проблем никому не доставит.
Оба – и Никодим, и Дуся – слабели, сдавали на моих глазах, при мне готовились к уходу из жизни. Конечно, главное происходило в их душах, когда они оставались наедине с собой и с Господом, но многое было открыто, ни от кого не пряталось. Они каялись, ждали слов прощения и оправдания не только от своего духовника, но и от людей, перед которыми были виновны, которым принесли зло и боль. Их собственная жизнь казалась им правильной пятнами, разрозненными кусками. То, что отдельные участки всё же удалось пройти верно, они объясняли монашеским обетом, который приняли добровольно, осознанно, и теми муками, что довелось претерпеть. О них они говорили как об испытаниях, посланных свыше.
Никодим в последние месяцы жизни часто вслед за одним из своих сокамерников Евстратовым повторял, что те, кто был на передовой и уцелел в Первую и Вторую мировые войны, и те, кто не «придурком» прошел лагерь, – все отмечены печатью чуда Господня. Десятки раз они должны были погибнуть, однако Господь без устали их охранял. Думаю, что вера в это – единственное, что ему позволяло хоть как-то свести концы с концами. Увлекаясь, он принимался доказывать, что таких людей сотни, тысячи, даже миллионы, они образуют настоящее воинство Божие и потому непобедимы. Подобно древнему Израилю, на их стороне воюет сам Господь. Страшная мясорубка, через которую в ХХ веке прошла Россия, – огонь, вода и медные трубы, – начало очищения и спасения человеческого рода.
Впрочем, подолгу он ликовал редко и, в общем, готовясь отдать Богу душу, глядел на мир с немалым равнодушием. Спокойно, без сожаления говорил, что, кроме суеты, жестокости, ничего давно не различает. Пытаясь его расшевелить, я рассказывал о друзьях и знакомых, но разобраться в наших отношениях Никодиму было нелегко. В старости без образца, без правил он чувствовал себя неуверенно, оценивая людей, старался и на шаг не отступать от собственного опыта – монастырского, затем лагерного. Когда же это не выручало, делался робок, путался.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу