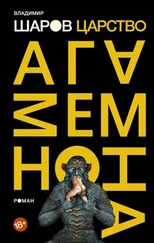Наверное, из-за этого, из-за того, что по-прежнему приходилось быть начеку, или потому, что имена едва ли не половины людей, которых Дуся упоминала, ничего мне не говорили, я слушал ее вполуха и даже не пытался ничего склеить. Она жаловалась на Никодима, который в тридцать третьем году, когда между двумя отсидками у него выпал перерыв, за день разрушил то, что она строила десять лет – как раньше она Пашу, убедил Сережу, что он еще не знает жизни и уходить из мира, принимать постриг ему рано. Про обет, который Сережа дал перед войной, пообещав Деве Марии, что если она поможет ему уцелеть, то, вернувшись с фронта, он сразу уйдет в монастырь. И добавила, что Сережа трижды был тяжело ранен, но выжил, обета же своего не исполнил, остался в миру.
Правда, мне казалось, что сейчас отказ от пострига она была готова сыну простить – во всяком случае, когда я говорил, что в Медвежьем Мху Сережа жил как настоящий затворник – два года, если не считать наших с Алешей и Акимычем приездов, не видел ни одного человека – она вроде бы со мной соглашалась. Она теперь всё принимала, всё ему прощала, только бы Сережа не покончил с собой, не совершил грех, который никому и ничем еще не удалось искупить.
* * *
Для самой Дуси исповедь Никодима мало что поменяла, иначе было со мной. В первую очередь я говорю о ее отношениях с Сережей. Здесь одно с другим я сумел сложить только после Никодима, но результат был грустный, и мне еще больше стало жалко ее, Сережу, Пашу. Тогда от Дуси я уже не бегал. Она была стара, слаба и, будто переняв у Никодима эстафету, – угасала. Мне казалось, что она давно с радостью бы ушла, но Господь взять ее к себе не спешил. Это да то, что теперь она не врывалась ночью, меня с ней вполне примирило. Я даже без лишних просьб стал ее навещать, тем более что время было. Я покупал продукты, делал то, что она поручала, и, как и с Никодимом, часами с ней разговаривал. Думаю, что важным для Дуси было именно последнее. Как и любому из нас, ей, заканчивая жизнь, надо было выговориться. Многое – куда подробнее, чем раньше, – она рассказала о Паше и, когда я спрашивал, в кусты не пряталась, старательно, даже с готовностью объясняла, дополняла то, что я слышал от Никодима.
По словам Дуси, к ее памяти о брате смерть Паши в Томске ничего не добавила. В двадцатом году, умоляя его повременить, не спешить с клобуком, она уже чувствовала, что губит Пашу, но, науськанная матерью, не смогла остановиться. Тогда день за днем она убеждала его, что всё равно, монах ты или живешь в миру, страшна лишь духовная смерть – остальное, даже гроб, меньшее зло. Потом Паша уехал в Сибирь и пропал. Через год она хоть и отправилась в Хабаровск его разыскивать, в успех верила мало. Ехала опять же для матери, а так – понимала, что Паша посреди моря зла чудом нащупал мостки, идя по которым спасешься, а она его с них столкнула.
Теперь, когда она знала про последние дни Паши, она была согласна с Никодимом, что, наверное, крестный ход брата был не благословен, потому Господь и не дал ему закончить начатое дело. Как бы ни называть то, что он затеял, всё вылилось бы в новую и еще большую кровь. Этот второй путь был ложен, но Паша пошел по нему именно из-за нее. Мать Паша и любил, и почитал, однако в серьезных вещах давно был от нее независим. Другое дело – Дуся, ей, ее интуиции он доверял иногда почти слепо. И вот отсюда, из его веры в сестру, любви к ней, зло и родилось. Помешав Паше принять постриг, она собственноручно обрекла брата на смерть. А знает она или не знает, где, когда он умер, как и с мужем, ничего изменить не может.
Было и другое. Не меньше, чем перед Пашей, она считала себя виновной и перед Господом. У Всевышнего она отняла уже обещанную, уже положенную на алтарь жертву. Тельца без малейшего изъяна, какого и должно приносить Богу. Кстати, Пашу она звала тельцом с того дня, как мать, родив, впервые показала ей брата. Свой долг Господу она пыталась вернуть всю жизнь. О том, можно ли его покрыть, спрашивала каждого из своих духовников, но, не добившись ничего вразумительного, решила, что ущерб невосполним, однако отсюда не следует, что остается сидеть сложа руки. Возместить Господу хотя бы часть потерь она в состоянии.
Причин ее пострижения в мантию несколько – необходимость искупить проклятие сына, разлад со старцами и третья, может быть, главная – за Пашину душу отдать Всевышнему свою. Но мера на меру не выходило. Паша был чист как дитя, а ее душу тянуло, тащило в преисподнюю зло. Кроме Паши, она была виновна перед Богом, которому год за годом врала на исповедях, перед мужем, которому изменяла, которого отправила на Кавказский фронт, где в восемнадцатом году его и убило, перед сыном, так, ни за что отданным ею нечистой силе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу