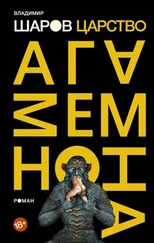В ночь перед Алешиным отъездом с юго-востока, из Средней Азии ветер пригнал тепло. Снег, что лежал на льду, расплавился, сошел буквально в два дня. Когда солнце было высоко, лед блестел так, что на него было больно смотреть, но часа по два – на закате и на восходе – он делался совсем прозрачным, каждый корешок, каждый листик был виден, будто запаянный в стекло. К тому времени я уже искал Сережу на озере, как привязанный ходил вокруг острова, шире и шире нанизывая круги.
Нашел на пятый день на рассвете, метрах в трехстах от берега. Тело, словно пузырек воздуха, всё вмерзло в лед. Думаю, он ловил рыбу незадолго до ледостава, где-нибудь в первых числах ноября. Летом из сетей он, может, и выбрался бы, но в предзимье вода слишком холодная, у Сережи, чтобы освободиться, не было и пяти минут. Или его течением затащило под корягу, тогда вообще ни единого шанса. Наверное, продолжал я, озеро было уже затянуто льдом. Всплывая, в этот лёд тело уперлось. За зиму в некоторых местах Медвежий Мох промерзает до дна, но и там, где вода глубокая, толщина льда редко меньше метра. К весне Сережа, хоть и не отпетый, не похороненный, врос в него, будто в хрустальную купель.
Через сутки, говорил я, на санях приехал наш аникеевский друг Акимыч, и мы решили, что попытаемся, не повредив тело, выпилить или выломать куколь с Сережей из льдины. Работали до ночи, лед под нами трещал, прогибался, всё же в конце концов мы это сделали и уже при луне с помощью лошади вытащили Сережу на берег. Утром я пошел копать могилу, а Акимыч из досок, заготовленных для сарая, стал мастерить гроб. Сколачивал не по размеру, а больше, чтобы положить Сережу как есть, прямо в куске льда. Похоронили мы Сережу ровно в полдень метров на двадцать выше его землянки, на красивой лесной поляне, в окружении старых елей. Я прочитал несколько поминальных молитв, и мы, воткнув в головах крест, опустили Сережу в землю. Потом на холмике по обычаю его помянули.
После этой ночи, оба старательно обходя больные места, мы с Дусей виделись уже регулярно – два-три раза в месяц. Она заходила не ища повода, просто чтобы его вспомнить. Больше не плакала и ни в чем не упрекала, будто Сережина смерть всё простила и всех оправдала. Тихим, бесцветным голосом рассказывала о революции, Гражданской войне, об Амвросии и Никодиме, о себе, незадолго перед тем родившей второго ребенка, оттого экзальтированной и восторженной. Однажды покаялась, что, когда Сереже было пять лет, в сердцах прокляла его, и тут же без перехода принялась много и нежно говорить о своем брате Паше, которому, как ни любила его, тоже не принесла ничего, кроме зла.
От Никодима я уже знал, что в двадцатом году она по дурости умолила Пашу отложить, не принимать сейчас пострига, и через несколько месяцев он где-то в Сибири сгинул, пропал в самом конце Гражданской войны. Потом снова возвратилась к Сереже, который и лицом, и фигурой, и повадками был до оторопи на него похож; не раз, особенно со спины, она даже путалась, окликала сына Пашей. Такое сходство, убеждала она меня, не могло быть случайным: Господь милосердный словно давал ей шанс раскаяться, исправить ошибку. Сереже не было и десяти лет, а она всё упорнее думала, что его предназначение – скитская жизнь. Постриг снимет, освободит Сережу от проклятия, которое она наложила на сына. Приведя Сережу за руку к Господу, она искупит и вину перед братом.
Дуся, когда шла в храм, с трех лет брала с собой сына. Почти каждый день отстаивая в церкви полную обедню, он уже к пяти годам знал весь канон, привык не реже, чем раз в неделю, исповедоваться и причащаться. Для него церковь была домом, объясняла мне Дуся, кроме того, готовя сына к монашескому служению, понимая, какая тяжелая жизнь ему предстоит, она, как умела, закаляла его волю и тело. Сережа рос сильным, главное – выносливым.
Случались дни, когда Дуся говорила отстраненно, будто не про себя, часто перескакивала и обрывала. Могла снова вернуться в двадцатые годы и тут же без перехода спокойно сообщала, что и до Медвежьего Мха Сережа не навещал ее целый год. Ни под каким видом не соглашался с ней встретиться. «Наверное, и на свое болото, – объясняла она, – уехал, чтобы я не надоедала». Но и так она не припомнит, когда они последний раз говорили по телефону. Может, и вправду в ней всё перегорело, а может, хотела меня успокоить, убаюкать, потому что в наших странных беседах время от времени по-прежнему попадались ловушки.
Например, однажды, словно невзначай, Дуся спросила про крестильную иконку, с которой Сережа никогда не расставался. Я нашел ее на табурете возле раскладушки, но тут догадался сказать, что, кладя Сережу в гроб, видел ее сквозь лед. Ладанка была у него на шее. Я понимал, что Дуся с первого дня, как узнала о Сережиной смерти, только о том и молится, просит Господа, чтобы на Медвежьем Мху ее сын утонул, ловя рыбу, а не наложил на себя руки, и старался быть очень внимательным.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу