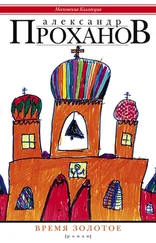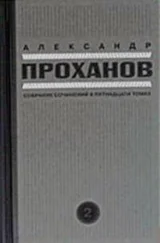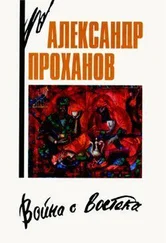«Сроки мои сочтены, а не готов, не прибран… Кто меня приберет и отправит?» — думал он робко, стремясь победить свою панику, остановить свое разрушение.
Приблизился к луже и теплой рукой зачерпнул красно-синий тончайший шелк расплывшейся нефти. Смотрел, как текут по ладони цветные разводы жизни, безгласной, безмолвной, падают неуловимо сквозь пальцы.
«Может, этим я стану?»
Подошел к трубе, окунул кисть в шуршащий водомет, поразившись его теплотой и жемчужностью, термальными подземными запахами, недавним пребыванием в нагретой сердцевине земли. А теперь вода орошала ему брови и губы и о чем-то звенела. О невнятной, недоступной пониманию жизни была ее молвь.
«Или ею, безымянной?»
Влажный цветок кипрея чуть качался под ветром, в Ковригин старался понять, где лицо у него, где глаза. Но кипрей смотрел на него десятком маленьких лиц, не замечая его.
«Или им… Или ягодой клюквой…»
Но не было веры и знания. И страшен был сам переход, само погружение в землю. Там, в глубине, шла страшная игра и работа. Насосы из водяных горизонтов выхватывали воду и, сжав ее, рушили в пласт, нацелив в нефтяные скопления. Взрывались водяные шары. Били в нефтяные зароды. Срывали их с крепей, сминая в комки. Подгоняли под щупальца скважин. И те выпивали их жадно, ввергая в движение по трассам. Недра пузырились и пучились, в них не было тишины и покоя.
И он стоял потрясенный, без веры, без знания, трогал цветок иван-чая.
Ночью на станции приложили к его уху раструб и сквозь грохот сказали негромкое, ясное слово. О его конце. И он был застигнут врасплох. Выкрикивал что-то ужасное, что-то позорное, о чем вспоминать невозможно.
«Да что же, в самом-то деле? Будто раньше не думал?
Под пулями так не боялся. Будто не верил, не знал… Да, не знал и не верил. Был глух, иные звучания… А тут — столь ясно и тихо, сквозь все грохотания…»
С отвращением подумал о возвращении в Москву, о докторах и больницах. И возникла неясная, сладко-больная мысль: исчезнуть, как зверь или птица, чтоб следов не нашли. Проделать остаток пути на последнем остатке жизни к той заполярной черте, где воды, и синие тундры, и блуждание льдов в горизонтах.
«Как глухарь… Как волк… Как осетр… Без глаз посторонних».
От этой мысли, от образа птиц и зверей возникла надежда. Он шел через ломаный лес, неся в себе эту надежду.
Его вывело опять к буровой. Она чернела в дожде, окутанная гарью. На помосте под брезентом сотрясались моторы. Бригада, свинченная с буровой в железное топотание, давила сапогами сочные потоки из скважины.
Ковригин смотрел на них, узнавая недавних, из автобуса. Но не было веселья, румянцев, а ходили желваки и жилы, воспаленно светились глаза.
— Эй, что встал! Сторонись! — крикнули у него за спиной. Малый в робе, надрываясь, проволок металлический трос.
«Лететь, не лететь? Ну, лететь, не лететь?.. Сунуться вслед за вахтой, за их полушубками. За шапками, за хохочущим Бузылем, несущим в коробке полуудавленного зайца, попавшего в стальную петлю. Полчаса в ледяной скорлупе, прижавшись к дрожащим шпангоутам, в грохотании, глядя, как тундра краснеет от солнца и заячье ухо торчит. И Иртыш, белым серпом врезанный в тундру, и янтарная россыпь поселка среди синего острова елей. Прямо с мороза войти к жене. Ледяные распухшие руки — на ее горячий затылок. И она снимает с меня мохнатую шапку, расстегивает пуговицы полушубка…»
Вертолет дрожал в свисте винтов, секущих перьями воздух, сметающих острую пургу с ободранных елей. Волнистый столб снега поднялся в зеленое небо, затуманил низкое солнце, иглу буровой, засасывая в себя вертолет. Машина взмыла упруго, косо понеслась, уменьшаясь. Сверкнула, как капля, обращаясь в точку.
«Ну вот и остался… А ведь лучше б лететь…» — думал Малахов, вслушиваясь в ровный гул дизелей. Буровая коснулась солнца. Фермы покраснели, распухли. Казалось, сталь, размягчившись, согнется надвое.
— Эх, надо было лететь! — сказал он мастеру Саркисину, топтавшемуся тут же. — Чего я раздумывал?
— Завтра улетишь, не волнуйся. Днем больше, днем меньше… Да к вечеру здесь вездеход пройдет. Гаврюха с седьмой буровой будет домой пробираться. С вездеходом поедешь…
— Верно.
— Пойдем-ка к Андрюше. Он что-то к себе зазывал. Прощальное угощенье готовит.
Малахов взглянул в небо. Там летело огромное облако, как бегущий огненный заяц.
Геолог Андрей Самарин сидел в натопленном жарко балке, на застеленной кровати. В лисьей пушистой шапке, красивый, тонколицый. Отвороты его черного полушубка кудрявились белой овчиной. Бурильщик Котяра, в замасленном ватнике, чистил самаринский карабин, проливая капельки масла. Поддакивал самаринским шуточкам, глядел на него с обожанием. На столе возвышалась бутылка заморского виски. На полу лежал огромный глухарь, лиловый до черного блеска, с заплатами алых бровей. Крылья были распахнуты, словно тугие вороненые рессоры. И от него шел могучий аромат птичьей убитой жизни, леса, крови и выстрела.
Читать дальше