На море-окияне лежит бел горюч камень,
на камне девица, держит иглу булатну,
вдевает нитку шелкову,
зашивает кровавы раны…
из старинного фольклора
Ковригин, бодрый, напряженный и резкий, еще полный самолетных гулов: алюминиевый бивень крыла, подсвеченный утренним солнцем, закопченные кожухи двигателей с жужжащими вихрями и внизу, на рыжей равнине, бетонные блоки заводов, башни градирен и домен, полосатое скопище труб; дышат, дымятся, развешивают слоистые, достигающие самолета дымы, будто в степь приплыла армада линкоров и встала, нацелив орудия в небеса и пространства, — Ковригин, сойдя с самолета, делал свой первый доклад перед инженерами и экономистами комбината. Радовался их разномастным, уже кирпичным от казахстанского солнца лицам, умным, зорким глазам, блокнотам на коленях у многих, куда заносились его мысли, прогнозы о гигантских экономических организмах, зарождающихся на этих пространствах.
Он закончил и вышел, оставляя за собой рой голосов и вопросов, молодых, тянущихся к нему голов. Обещал им вторую встречу. И, сопровождаемый главным экономистом, из лекционного зала двинулся по ржавой, усыпанной стеклом и камнем земле к заводским корпусам, обгоняемый самосвалами.
— Блестящее выступление, Николай Степанович, блестящее! Прямо, как говорится, с пылу, с лету, — поспевал за ним главный экономист. — А как слушали!.. Тут у нас, знаете, целый кружок ковригинцев! Молодежь горячая… Все ваши труды у них на руках. Они вам в институт писать собирались, а тут нате, сам Ковригин из столицы с докладом… Вот уж они сейчас копья ломают!.. Вы меня тут подождите, Николай Степанович, я мигом узнаю, куда машина пошла. Мы вас в гостиницу, отдыхайте… Нельзя ж так прямо с дороги!..
И он убежал, с прозрачными, полными бледного солнца глазами.
Ахающий, дымный, железный, размытый вдалеке синевой прострел прокатного цеха… Ноздри жгло от едкой окалины. В горле тампон тяжелого пара. Из решетчатых стальных облаков косое падение дымных лучей. Над печью, под сводами, колыхание тучи.
Грохот и красный огонь. В водопадах белого света рушится сляб на рольганги. Подхваченный вихрем движения, с лязгом и свистом, сбрасывая рыжие гривы, несется огнедышащим, прошибающим цех тараном. И в глазницах пожар и слезы.
Ковригин радостно озирался. Ловил свистки пролетавших кранов, мегафонные вопли диспетчеров. Ему было здесь хорошо, среди знакомой, любимой им техники.
Помнил, как строился тут комбинат, видел его жизнь и судьбу. Его громадный, погруженный в степь корень. Его рост и слияние с рудниками и шахтами. Скопление городов и поселков в небывалый, сплошной узел жизни, покрывающей степь до южных далеких гор, до хлюпающих северных тундр.
Он все это видел и знал. Все было в системе его предсказаний. Он царил и господствовал, обнимая все своей сильной, радостной мыслью.
Вдруг почувствовал слабый, небольшой толчок в сердце. Оно дернулось, сменив свой ритм и движение, будто кувыркнулось в груди, и билось теперь в новом положении, пытаясь вернуться на место.
Он испугался, мгновенно отключаясь от звуков и зрелища цеха, прислушиваясь к сердцу, видя его внутренним оком, — пульсирующее, отечное, алое, утомленное перелетом, потоком крови и мыслей, готовое сорваться в припадок.
«Пронесет, пронесет, — думал он суеверно, уже не веря, зная все наперед, страшась, жалобно молясь своему трепещущему слабо сердцу: — Ну пронеси, пронеси, умоляю!»
Слябы, расплющенные стальные подушки, подкатывали на платформах к печи. Хобот тупо и вяло толкал их в открытый зев. Свистели горелки, выбрасывая ядовитые, зелено-желтые космы. Ребристая, уходящая под своды труба воздухопровода качала кислород из окрестных весенних степей. Как трахея, тянула воздух, полный теплого ветра, легчайших ароматов полыней, овечьих вздохов, птичьих мельканий. Горелки лизали слябы. Сталь набухала жаром, подходила, как тесто. Печь сотрясалась бетонным, погруженным в недра фундаментом.
«Пронесет, пронесет, — думал Ковригин, чувствуя, как сердце начинает биться двойными ударами, через такт выделяя короткую боль. Он поспешно достал валидол, сунул в рот, прикусив язык, сосал таблетку, стараясь всей своей волей, мольбой, желанием соединять раздвоенные, больные удары, удержать начало болезненных схваток. — Не пущу, не пущу, не позволю!»
В печи отворилась черная челюсть заслонки. Сочный, красный язык, пузырясь слюной, вытолкнул добела раскаленный сляб. Озарил на стене огромный плакат и лозунг. Кус металла боком полетел на рольганги, коснулся их с лязгом. И сила огня и света давлением смяла лицо Ковригину, проникла в череп и в груди, до самого сердца, опалила сквозь одежду живот. Промчалась, оставив его в липкой, банной испарине.
Читать дальше
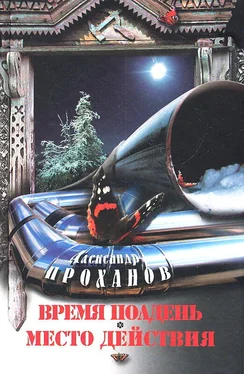

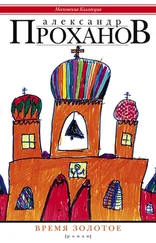
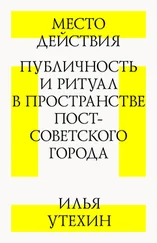
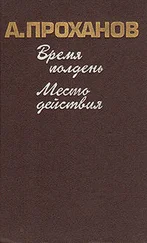

![Анна Шилкова - Мострал - место действия Постон [СИ]](/books/412232/anna-shilkova-mostral-mesto-dejstviya-poston-si-thumb.webp)
![Анна Шилкова - Мострал - место действия Ленсон [СИ]](/books/412233/anna-shilkova-mostral-mesto-dejstviya-lenson-si-thumb.webp)
![Анна Шилкова - Мострал - место действия Иреос [СИ]](/books/412234/anna-shilkova-mostral-mesto-dejstviya-ireos-si-thumb.webp)
