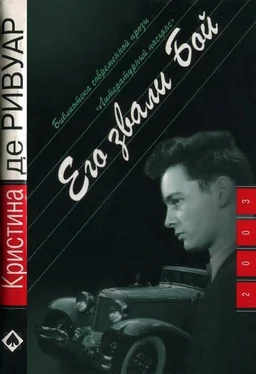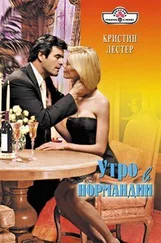— А что у тебя случилось? Ты вроде как не в своей тарелке?
— Какая еще тарелка?
Выражение лица у меня, наверное, было не слишком приветливое, когда я это говорила. Ну а он? Ох уж эти взрослые, иногда такое говорят. Даже он так странно порой высказывается: ты вроде как не в своей тарелке. А как выглядят те, кто вроде как в своей тарелке? Да и где она, моя тарелка? Возле души? Далеко от души? Или это и есть душа? Так разбей ее скорее, Господи, чтобы я отделалась от нее!
— Ты знаешь, я люблю только счастливых креветок, — сказал дядя Бой.
Он говорил с каким-то легким беспокойством, отчего казался особенно милым. Я улыбаюсь ему. В конце концов, он из-за меня их сейчас бросил, эту дылду Долли и зеленую Зузу. Камыш и лягушка. Чайная чашка, масло какао. Худющие, противные воровки, он их бросил и подошел ко мне — поговорить о розовом купальнике и о счастье. Могу ему солгать:
— Я счастлива, дядя Бой.
— Слава Богу.
Он берет меня за руку. Идем по пляжу к тенту, ко всем. Мама стоит к нам спиной, помогает сестрам переодеться. Вижу, что на меня смотрят тетя Кати, Долли де Жестреза и Зузу Вардино. Мне бы опустить глаза, а я их раскрываю как можно шире и подымаю голову.
— Ну что, коротышечка, — говорит Долли, — балует тебя твой дядя Бой?
— Сколько тебе лет, малявочка? — спрашивает Зузу. И в лучах южного солнца я вижу язык тети Кати. О, этот язык.
Ох, надолго же мне запомнится тот обед, 14 июля, в среду. Вся семья была в сборе. Мсье Макс и мсье Жаки приехали накануне, один на своем «пежо», другой на «симке-пять». Мсье Макс строгий, как обычно, а мсье Жаки ворчливый, похоже, воздух в Андае вреден для его хронического синусита. Поначалу дамы сидели молча, слушали мужчин, а те все говорили про то, как плохо во Франции идут дела: какой-то вроде бы Леон да еще Народный фронт довели, мол, нас до такого состояния (тут мсье Жаки сказал ругательное слово, я его повторять не хочу, даже на кухне не скажу, Мария Сантюк не позволит), цены растут, пачка сигарет стоит уже три франка, а почтовая марка — шестьдесят пять сантимов. А франк все плавает (странное дело, франк плавает, как какая-нибудь рыба дохлая в реке, ничего себе). Нет уж, пусть мои сто пятьдесят франков в месяц лучше не плавают, пусть лежат у меня, и мама моя в Мурлосе тоже так считает, ведь половину я ей отправляю. Государственная казна почти пустая, а все кафе, гостиницы и рестораны бастуют. Уж как они недовольны, мсье Макс и мсье Жаки, что все кафе бастуют (будто они часто ходят в кафе, будто их можно себе представить сидящими на открытом воздухе, за столиком кафе, мсье Макса с галстуком-бабочкой и в брюках для гольфа и того, коротышку лысого с его синуситом). Они договорились до того, что надо, мол, всех официантов кафе посадить в тюрьму, и тут мадам Жаки встряла и закричала: наконец-то, наконец-то депутаты решились принять закон, запрещающий чаевые, давно пора (она кричала, а сама следила глазами за Иветтой и за мной, а нам плевать). Хотела бы я видеть, как это мадам Жаки дает на чай. Нам, например, на Новый год она покупает на распродаже в магазине «Дам де Франс» по отрезу дешевой ткани и только. Мадам Макс ответила, что депутатов во Франции не послушаются и будут по-прежнему давать на чай, а мсье Бой, к счастью, сказал, что только этого не хватало. А мадам Жаки вся тут же задергалась, это, говорит, позор, что они защищают чаевые, это, говорит, попрошайничество, это скандал, она часто повторяет это слово, мадам Жаки.
Они долго еще говорили про Народный фронт, забастовку в кафе и запрет на чаевые. Во всяком случае, пока ели дыню, с которой начался обед, и омары под майонезом (Мария Сантюк сделала из этого блюда настоящий сад: вокруг нарезанного ломтиками омара положила лимоны в форме корзиночек, помидоры в форме роз и тут же рассыпала натертые желтки крутых яиц, похожие на цветущую мимозу. Не говоря уже о кусках панциря, разложенных там и сям для красоты, и пристроенных с одного конца блюда клешнях). Когда подавали омара (блюдо несла, конечно же, я; ведь я здоровее, чем эта тощая Иветта. А она шла за мной и несла соусницу с майонезом), мсье Бой запел: да здравствует Санкта Сантюк, да здравствует Иветта, да здравствует Сюзон. Барышни, его гостьи, захлопали, и Хильдегарда, и мадам Макс тоже.
Пока я разносила, мсье Бой сменил тему и стал вспоминать свою поездку: как он познакомился в Америке с труппой негритянских танцоров и танцовщиц и как потом опять встретился с ними в Париже, на балу, а их танец называется Сьюзипопо, а он называл его Сюзон-Попо и улыбался во весь рот, все зубы напоказ, и все смотрел на мой испанский передник, мне пришлось надеть его, ведь это же было 14 июля, праздник. И я тоже улыбалась. А потом он рассказал, как сфотографировался на ступеньках Оперы с этими танцорами и танцовщицами, и когда фотографии будут готовы, все увидят, что эти негритянки — блондинки. Конечно, сразу за столом все развеселились, все-таки это праздник, 14 июля, и негритянки-блондинки на фото с мсье Боем — это повеселее, чем плавающий франк или забастовка официантов кафе, веселее, чем Народный фронт и какой-то там еще Леон. Я ожидала, что сейчас мсье Макс сделает очень строгое лицо и скажет: Хильдегарда, выйди на минутку на террасу, я позову тебя к следующему блюду. Но нет, вовсе нет, он продолжал есть омара (у него отличный аппетит, у мсье Макса) и не показал виду, что находит рассказ мсье Боя «не для детей». И тут уж мадам Макс рассмеялась от души и спросила у мсье Боя, а может, на этих негритянках были парики, а не свои волосы. А мсье Бой ответил:
Читать дальше