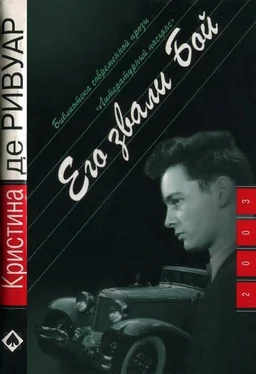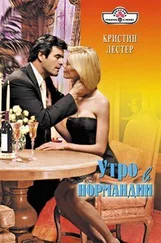— Заметь, — говорил Жан, — она роняет им это свое «нет-нет-нет», будто назначает свидание.
В день, когда Лалли исполнился двадцать один год, она приехала в Нару, ее шиньон сидел чуть набекрень поверх нутриевого воротника, подарка тети Евы. Это было в апреле, за год до объявления войны, она хотела поцеловать нас на прощание, перед отъездом в Бордо, где она будет совершенствовать свой голос. Застигнутая врасплох, Горищёк зазвенела своими бубенчиками, раскрыла и снова сложила лорнет, разглядывая аппетитную особу, собиравшуюся улизнуть.
— Берегись, Лалли!
А Ева Хрум-Хрум срывалась на крик:
— Ты с ума сошла, ты просто сошла с ума! Бордо, а дальше что? Молодая девушка одна, в Бордо, это же погибель!
— Я буду не одна, Ева.
— Ты не…
Она задохнулась, потирала руки так, что хрустели суставы.
— Я буду не одна, Ева, — повторила Лалли, — я буду с моим женихом. А когда мы поженимся, то с мужем.
— С мужем, какой ужас! — вымолвила Хрум-Хрум.
— И вовсе не ужас, Ева, он чудесный человек, играет на скрипке.
— На скрипке, — эхом отозвалась сраженная Ева.
— На скрипке — послушай, Лалли, это несерьезно, — запротестовала бабка. — Да где же ты познакомилась со своим скрипачом?
— В Даксе. Благодаря Еве, меня с ним познакомил мой учитель пения.
— А как его зовут?
Лалли опустила глаза, сложила ладони, как когда запевала Tantum ergo:
— Его зовут Даниель, правда, красивое имя? Имя пророка…
— А дальше? — рявкнула Ева.
— Дальше — ну, Леви. Даниель Леви.
Один электрический разряд пробежал через моих бабку и тетку, только у первой достало сил вскрикнуть, а вторая лишь округлила рот в немой мольбе; она походила на пескаря, выброшенного на берег; наконец, обретя дыхание, она пошла в наступление на пятившуюся Лалли. Это был танец ненормальных: истеричная женщина, устремлявшаяся вперед, спокойная и сияющая девушка, отступавшая перед ней, скользя ногами по плитам пола. Довольно долго слышен был только шорох от этого скольжения — фрр, фрр — и стук каблуков тети Евы, гонявшейся за Лалли вокруг круглого стола, на который Мелани поставила поднос с кофе. Я подумала, что Ева сейчас схватит кофейник и убьет им Лалли, но та снова отступила, увлекая фурию за собой вкруг кресел и стульев, где притаилась я (папы не было дома, Жан был в школе); безумный взгляд тети Евы перескочил на меня, для нее это стало избавлением, ей удалось прорычать:
— Вон отсюда, шпионка, мерзавка, вечно она там, где все не слава Богу!
Горищёк воспользовалась случаем:
— О да, у нее страсть к греховному, но ты, Лалли, ты осталась чиста.
— Чиста?! — завопила Ева. — Чиста, шлюха, собирающаяся замуж за еврея!
— Лалли, послушай меня, — снова заговорила бабуля, решив действовать лаской, — евреи распяли Христа…
— Но не мой, — ответила Лалли, не переставая пятиться через веранду, — не Даниель, мадам Сойола.
— Кровь его будет на нас и наших детях, — продекламировала Горищёк. — Ты прекрасно знаешь, что они так сказали.
— Мне говорили об этом, но я в это не верю и никогда не верила, мадам Сойола.
— Ты никогда в это не верила? О, Лалли, сколько грехов У тебя на совести…
Ева вдруг прибавила ходу и набросилась на золовку, вцепившись ей в волосы.
— Еврей, ах ты шлюха! Еврей! Еврей в семье моего сына, какой скандал, какой стыд! Еврей!
Сильным движением рук Лалли высвободилась. Тетя Ева упала на колени, но продолжала кричать «еврей» и «шлюха», как речевку. Еврей — шлюха! Лалли побежала к двери, я за ней, я хотела попрощаться с ней, поцеловать ее, пообещать, что мы с Жаном всегда будем ее любить, но она оказалась проворнее меня. Когда я выбежала к воротам сада, она уже катила на велосипеде, ее волосы развевались по ветру, словно грива лошади, мчащейся галопом.
— Послушай, Лалли, подожди, будь счастлива!
Не переставая крутить педали, не оборачиваясь, она сделала мне знак рукой и исчезла за лавровой изгородью. Ева все вопила. Еврей и шлюха! Она вопила до самой ночи, мне было четырнадцать лет, я уже привыкла к семейным сценам, это не нарушило мой сон, мне приснилась Лалли: она пятясь поднималась на Голгофу, солдаты Понтия Пилата тащили ее за гриву. На вершине горы стоял Жан.
Уже две недели Нара изнемогает от лета. В поселке женщины говорят друг другу: уф, ну и погодка! Они приставляют руки козырьком к своим черным шляпам и так стоят с серыми от пыли сандалиями. В соснах преют старики в полосатых жилетах, их пот цветом напоминает мастику, коричневые капли стекают из-под беретов по шее, изрезанной глубокими морщинами, по впалым щекам, прячущим беззубые десны, они тоже стонут. Фу, ну и погодка! Дома немцев стало сложнее обслуживать, Воскорукий полковник ужинает в беседке и подолгу сидит там в компании своих офицеров, а от его секретаря Отто валит пар. Как только Отто входит на кухню, тотчас расстегивает мундир и вытирает свое розовое тело тряпками Мелани, которая пытается протестовать. Что вы делаете, мсье Отто, я только что вытирала ею плиту! Отто продолжает обтираться, тряпка Мелани прохаживается у него под мышками, его волоски похожи на отцветающие одуванчики. Мелани смущается, качает бедрами, предлагает Отто стакан холодной воды. У меня целый кувшин в бельевой, я набрала ее из колодца, мсье Отто, вам полегчает. Немец улыбается своими глазами без ресниц, отказывается от воды, продолжает обтираться печной тряпкой, а потом вдруг — шлеп, его сияюще-белая рука оказывается на заду Мелани.
Читать дальше