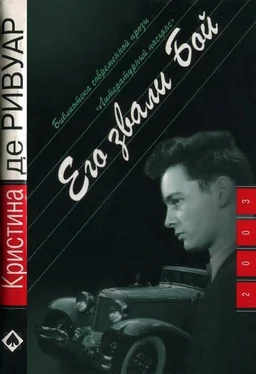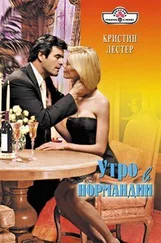— М-м-м, какая аппетитная особа!
На что Ева отвечала с кислой физиономией, потирая сухие руки:
— Хорошо, да ничего хорошего. Только подумай об аппетите мужчин.
Если в ее сердце, занятом Жаном, еще оставалась хоть крупица нежности, хоть крошечка симпатии, то они доставались Лалли. Ева дарила ей свои старые платья, в основном лиловые или фиолетовые, под цвет ее волос. Лалли радостно вскрикивала. Какая прелесть, Ева, мне их только в боках расставить да подол отпустить, я буду самая красивая!
— А этой зимой, — добавляла Ева, опьяненная потоками благодарности золовки, — этой зимой я подарю тебе свое пальто. У него воротник из нутрии.
— Из нутрии! О, Ева, ты слишком добра!
Бабуля повышала ставку:
— А я куплю тебе туфли… У тебя будут новые туфли…
— Новые туфли, о, мадам Сойола…
— А я, — подхватывал Жан, — дарю тебе бабулин лорнет, он пригодится тебе, чтобы разглядывать мужчин, которые на тебя смотрят.
Смех Лалли взвивался, скакал мячиком и вертелся волчком, а Горищёк величественно ее увещевала:
— Не смейся, Лалли, Жан прав: ты должна быть проницательной. И осторожной. Если ты сделаешь хороший выбор, я дам тебе приданое.
Но тут Ева роняла, словно камень в лужу:
— Хорошего выбора не будет, я надеюсь, что Лалли не столь неразумна, чтобы выйти замуж.
Она бы хотела, чтобы ее золовка стала монахиней, разве этот ангельский голос не знак свыше? Ева попросила сестру Марию-Эмильену наставить Лалли, но та отказалась. Заниматься рекламой? Расхваливать чепец и серые юбки? И не думайте, мадам Бранлонг, призвания не закажешь, Лалли достаточно умна, чтобы самой распорядиться своей жизнью. Эта жизнь долгие годы сводилась для самой веселой девушки на свете к несвоевременным ночным трапезам слепой дамы из Лерезоса зимой и к летним трудам в Наре, где бабуля, пользуясь тем, что Лалли без жалованья, заставляла ее вкалывать в саду и играть с ней в маджонг [3] Китайское домино.
на веранде. Дважды в неделю Ева давала ей выходной. Лалли носилась с нами по полям и лесам на дребезжащем велосипеде Мелани. Все парни из поселка подгадывали так, чтобы очутиться на нашем пути, когда мы возвращались еле живые, проделав Бог знает сколько километров, и до смерти голодные. Самые дерзкие приходили к ручью, где мы ловили пескарей, которых заманивают в продырявленные бутылки на хлебный мякиш.
— Лалли, хочешь, я отвезу тебя порыбачить на океан, невод все-таки получше бутылки.
— А я отвезу тебя в Аркашон, Лалли, знаешь, летние устрицы такие вкусные!
— Поедешь со мной на праздник в Мон-де-Марсан?
— Не хочешь посмотреть на коровьи бега в Сен-Венсан-де-Тиросе?
— Может, сходим на танцы, Лалли? Что скажешь?
Она смеялась, отшучивалась. Ты на себя в зеркало-то смотрел, Камилл Дювиньяк, умылся б для начала, прежде чем меня приглашать. А ты, Жанно Коль, думаешь, мне захочется танцевать с желторотиком, который еще даже школу не окончил? Скажи на милость, Шарль Дюбур, так ты считаешь, будет мне интересно смотреть, как коровы гоняются друг за дружкой? Э, Фернан Лафуйяд, чтобы ловить неводом, нужно по меньшей мере шесть человек, где четверо остальных? Мы с Жаном рукоплескали уму Лалли. Мы Догадывались, что ей до смерти охота поехать на коровьи бега, в бухту Аркашона или даже просто в Сен-Сальен, посмотреть на море, но она знала, что это невозможно. В том, что касалось парней, ее благодетельницы останутся непреклонны, ей не разрешат даже пойти потанцевать в праздник на школьном дворе в Наре, она была слишком горда, чтобы просить о милости, и слишком весела, чтобы огорчаться отказом, так что — и вот это-то нас и восхищало — она посылала подальше Фернана, Шарля, Жанно, Камилла. Ее шиньон смешно подпрыгивал на макушке, иногда сваливался оттуда, словно чашка опрокидывалась. Подняв свои полные руки, она восстанавливала прическу и снова потешалась над своими воздыхателями:
— Ну и рожи у вас!
Своим хорошим поведением она побудила тетю Еву оплатить ей уроки пения и сольфеджио, когда ей исполнилось восемнадцать. Раз в неделю Лалли отправлялась в Дакс на велосипеде и поезде, слепая дама из Лерезоса отпускала ее. В церкви Нары сразу зазвучала гораздо более затейливая музыка, менее известные мелодии, чем знаменитый Tantum ergo, молодые люди все неотступнее преследовали певицу, которая каждое лето все хорошела. Она по-прежнему отвергала авансы и предложения прогуляться, но тон ее изменился: под иронией можно было различить (это Жан различил, не я) намек или, скорее, налет обещания.
Читать дальше