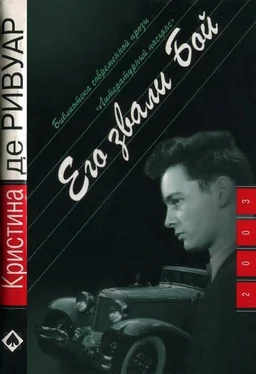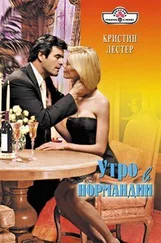Секретарь-альбинос на сей раз вручил мне открытку от Жана прямо в руки; обычно он относит почту тете Еве. Я не раздумывая пожала ему руку — у него ухоженные руки с блестящими ногтями, как листья лунника, и серебристые волоски на предплечьях. Когда я без предупреждения врываюсь в кухню, то вижу, как эти руки, словно сияющие зверьки, вскарабкиваются на плечи Мелани. Мсье Отто, что это вы, мсье Отто, господам не пристало делать такие вещи. Мелани шутливо возмущается, ее шея враз становится красной, она смеется. В то утро я тоже рассмеялась от души, как Мелани, еще немного — и я бы поцеловала мсье Отто, вестника счастья, я бы приблизила свое лицо к его физиономии, от которой, наверное, пахнет мокрым мякишем. Я ворвалась в комнату папы, он ждал меня с футляром в руке — это было жемчужное ожерелье моей матери. С днем рождения, Ниночка. Я совершенно не разбираюсь в драгоценностях, в жемчуге, но в моей руке мягко светилось колье с бриллиантовым фермуаром, когда-то оно сияло на красивой прямой шее моей матери-амазонки, на ее живой плоти, так что мы как будто подавали друг другу знак по обе стороны смерти. Колье моей матери. Открытка от Жана. Обрывки воспоминаний наползали одни на другие, на меня накатывали повседневные, волшебные фразы. Хочешь пить? Хочешь есть? Хочешь затянуться моей сигаретой? Тебе хорошо? Хочешь, перечитаем про приезд Эстреллы в «Больших надеждах»? А про конькобежцев на замерзшем пруду из «Орландо»? [1] Роман Вирджинии Вульф (здесь и далее прим. пер.).
Поцелуй меня в зубы. Давай играть, будем смотреть друг другу в глаза близко-близко, это забавно, Нина, у тебя в глазах бледные пузырьки, как на кофе, у тебя кофейные глаза, вот… Я не хотела поддаваться воспоминаниям, зажмурила свои кофейные глаза, папа разложил на покрывале своей кровати фотографии моей матери, я знала их все, но какая разница? Его указательный палец перелетал от одной фотографии к другой, он тоже открыл спасительные шлюзы своей памяти, и все хлынуло вперемешку — его большая любовь, его воспоминания, мимолетные кристаллики, блики света, вырванные из чернильной ночи его одиночества.
— Смотри, Нина, это она в Ницце. А это в Женеве, что скажешь о ее посадке? Ее коня звали Моби-Дик, забавно, правда? А вот она на молу в Биаррице, на этот раз в платье. Она тогда только что победила на самых сложных состязаниях, выиграла Серебряный Кубок, он стоит в твоей комнате, там надо было перескочить через огромный водяной ров, я с ума сходил, ее кобыла звалась Скала, просто чудо, но сущая дьяволица, ах, если бы ты видела, как они перемахнули через ров! Потрясающее зрелище, эта маленькая женщина и эта страшенная кобыла, они словно парили в воздухе. После победы мы пошли в казино, она выпила «манхэттен», это такой розово-коричневый коктейль цвета пожухлых папоротников, а на дне стакана лежит вишенка, она выпила свой бокал в три глотка и раскусила вишенку. Она была навеселе, она была само веселье.
Папу было не узнать: он помолодел на двадцать лет, в углу рта притаилась улыбка, я бы слушала его всю ночь. Далеко-далеко от рва в Биаррице, в моем собственном небе парила кобыла по кличке Скала, а маленькая черноволосая женщина, позировавшая в муслиновом платье на прогулочном молу, как будто тоже сейчас взлетит, она казалась такой легкой, у нее было лукавое выражение лица, свойственное победителям. Навеселе. Мне нравилось это слово. И вот тогда — любовь. Как я любила любовь моих родителей, пещеру, в которой я была разбойником, ручей, в котором я была рыбкой, жизнь, в которой я была трепетом. Я была дитя любви, папа говорил мне это тысячу раз и повторил сегодня, не без торжественности в голосе. Знаешь, Нина, ты — дитя любви. А я тогда спросила:
— Бабуля ведь этого не одобряла, да?
Он встал. Снова стал грустен, но не удручен, напротив, распрямился в приливе гнева, от которого потемнели его выцветшие глаза.
— Твоя бабушка ненавидела твою мать, не зная ее. Я должен сказать тебе, должен признаться. Я похитил твою мать, она была замужем, когда я с ней познакомился. За очень приличным человеком, военным. Но — я знаю, ты поймешь меня, — любовь не считается с приличиями, еще меньше она милует военных. Это случилось в По, в апреле, и сразу же стало слишком поздно.
— Ты похитил ее…
Я была восхищена. Привычная мне картина любви разрасталась до неслыханных размеров. Он похитил мою мать, я представляла себе, как они скачут на одной лошади через предгорья Пиренеев, Ланды, Жиронду, всю Францию. Сброшенный со счетов военный меня не волновал, он был приличный, очень приличный человек. Папа описал его без малейшего намека на мелочность:
Читать дальше