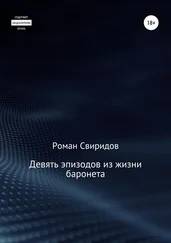Он произнес слово «любовь» так, как будто это было ругательство.
— Не выйдет так не выйдет, — говорю, — любовь и сама по себе может наполнить жизнь женщины; любовь — закон природы… Как это вы пропели: "Любить бедняжечке пора"? Спойте еще раз!
— Я вам лучше спою из другого романса: "Лови, лови часы любви", только это потом, а пока в прозе скажу то же самое, и совершенно серьезно. Но зачем вы отвлекаетесь? Когда надоест, так вы прямо скажите. Видите ли, мы с вами различные любви понимаем. Закон природы! Но человек, я думаю, тоже не вопреки законам природы возвысился до способности критически мыслить! Я вовсе не о той любви говорю, которая всю природу обнимает, как закон: то любовь растений, любовь животных; а за вычетом животного остается еще человек. И прекрасен этот остаток, если он представляет значительную величину. На него недаром работала зоологическая лестница всего живущего миллионы лет, с самого начала жизни на земле. Его любовь посложнее будет. В инстинкты, имеющие целью поддержание вида и особи, он вносит другие, только ему принадлежащие: вечно живущий и беспокойно шевелящийся инстинкт правды, какие-то неопределенные стремления, какую-то беспредметную неудовлетворенность — вообще то, что немцы называют Sehnsucht'oм. Из этих элементов, при надлежащей обработке, образуется высшая, чисто человеческая любовь. И это расцвет и весна жизни; это минута, которою мы обязаны пользоваться. Но она нелегко дается; она требует большого, самостоятельного труда. Если же человек весь сосредоточивается на любви к ней или к нему, то это шаг назад. И чем лучше такой человек, тем хуже: любовь экзальтируется, ей предлагаются требования, пред которыми она по необходимости пасует; является поэтическое, но бесполезное разочарование, затем новые поиски такой же любви и так далее. Так уж устроена наша психика: нервы привыкают к возбуждению в определенном направлении.
Он тяжело перевел дух, остановился и как будто сконфузился, что увлекся такой азбукой. Так именно он смотрел на свои слова. Это проглядывало в тоне его голоса, слегка раздражительном, словно он досадовал на себя за защиту и доказательство истин, вроде "дважды два — четыре". Такое отношение к избитой истине показалось мне очень новым и симпатичным. В нем много силы и жизненности. Эта сторона речи А. делала ее для меня уже не азбукой. Нет ничего противнее того бесстрастного, словно зевающего, тона, каким обыкновенно произносятся общие правила морали.
— Всё это мне и самой приблизительно известно, — сказала я, чтобы дать остыть теме разговора, — а вот вы лучше скажите, какой это большой и самостоятельный труд, что ведет к "весне жизни"?
— Вам понравилось это выражение?
Он посмотрел подозрительно.
— Понравилось.
— Большой труд? Это критический взгляд на вещи вообще и самокритика в частности, уничтожение в себе иллюзий, развитие правильного мировоззрения.
Теперь была моя очередь произнести: "Гм".
— То есть вы хотите сказать: что такое иллюзии и не иллюзии? что такое правильное мировоззрение? где ручательство за правильность именно того, а не другого? как иллюзии уничтожаются? Да?… То-то я и говорю, что это дело трудное, да едва ли вполне и достижимое…
— Так чего ж вы хотите?
Мне показалось, что он спутался, но он продолжал, вдруг повеселев:
— А уморительное вышло бы зрелище, если бы с людей моментально все иллюзии соскочили! Вот была бы картина всеобщего конфуза и замешательства! Многие столбы и камни оказались бы выеденными яйцами; кабацкие вывески заменили бы собою немалое количество знамен и пышных надписей; большинство внезапно просветленных оптимистов узрело бы источник своих ликований исключительно в собственном желудке; многие пессимисты вместо воплей и скрежета зубовного прибегли бы просто к касторовому маслу. Мертвые ушли бы в свои гробы; остались бы только живые, да и те в измененном виде… Чтобы быть совсем без иллюзий, нужно жить вне условий времени и места, то есть вне исторических условий. Но есть иллюзии, без которых человек немыслим в данную историческую минуту, и есть такие, с которыми он немыслим как живой, а не мертвый человек.
А. заторопился, и наш разговор остался недоконченным. Надо будет его пригласить».
Зима давно покрыла землю толстым, консервативным слоем снега. Люди, кто мог, запаслись топливом, заперлись в своих квартирах и ушли в себя. Наталья Семеновна приобрела плед (10 руб.); Вольдемар покрыл новым сукном свою енотовую шубу; Зизи плотно закуталась в шаль и по целым дням просиживала у камина. На дворе злилась вьюга, ветер бросал в окна снежную пыль и бушевал в трубе, как расходившийся большак в недрах отупевшего от повиновения семейства; обнаженные, обледенелые ветви деревьев с треском ударялись одна о другую; воробей — тот самый воробей, который и прочее, — озабоченно копался в навозе или, нахохлившись, сидел под крышей с самым недонжуановским видом. Но в камине тепло и кротко пылал огонек; голубые, красные и желтые языки лизали дрова и возбуждали в душе Зизи такое усидчиво-нежное настроение, что Вольдемару стало наконец за свою шубу страшно. Он несколько раз пробовал улизнуть, но Зизи задавала ему такую головомойку!.. Конечно, он не мог дольше выдержать.
Читать дальше