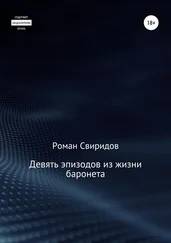В Глухом переулке она заметила нищего. Очень оригинальный нищий. Его видывали все, кому случалось проходить от сада на Болотную. Он всегда сидит на одном и том же месте, в одной и той же позе, съежившись и прислонясь виском к забору. Лоб стянут носовым платком, завязанным на затылке, как у страдающих головною болью; лицо еще молодое, южное, интеллигентное, болезненно-худое и необыкновенно печальное. Он всегда смотрит вниз, в одну точку и не делает ни малейших движений. Возле — шапка, куда прохожие кладут подаяния. Он никогда не просит, не благодарит и не молится. Деньги лежат на виду у всех до позднего вечера. Тогда появляется какая-то старуха в лохмотьях; сбор прячет, шапку надевает нищему на голову и уводит его за руку. Он покорно следует за нею нетвердыми шагами. Это не калека, но, без сомнения, безнадежно помешанный.
Наталья Семеновна не знала, что он помешанный. Она остановилась на другой стороне улицы и долго смотрела на него; потом вдруг порывисто приблизилась, вынула из тощего портмоне рублевую бумажку и положила в шапку: нищий не шевелился и, казалось, не замечал ее. Она подумала, что он задремал, и дотронулась до его руки: рука, как плеть, соскользнула с колена на землю, и едва заметная (или даже воображаемая) судорога пробежала по лицу больного, словно оно едко улыбнулось. Наталья Семеновна покраснела до ушей и отошла.
«В первобытной среде люди ставят свечи перед иконами и дают милостыню нищим, чтобы откупиться от мучений совести… Жалкие люди!»
Однако рубль-то был последний! Если от «мучений совести», или, говоря проще, смертельных размышлений, нельзя откупиться рублем, то строгий пост оные печальные вспышки прекрасно смягчает. Четыре дня Наталья Семеновна питалась одним чаем и наконец весьма удовлетворительно успокоилась.
Пока Наталья Семеновна приходила в нормальное состояние духа, я, нижеподписавшийся, перечитывая ее дальнейшие строки, всё больше и больше волновался: из дневника выглянула одна знакомая черта, другая, и, наконец, как живой, выпрыгнул Алешка и бросился ко мне на шею. Я сначала было обрадовался старому знакомому, но потом вспомнил, что с его появлением всяким художественным выкрутасам в моем изложении — капут, и пришел в значительное уныние. Где Алешка — там угловатость и тенденция. Я в этом убедился грустным опытом.
Помню, когда он еще в университете был, вышел такой случай. Мы вместе проводили каникулы в деревне. У меня была знакомая соседка-помещица, очень милая дамочка, с эстетическими стремлениями и аппетитною грудью, и эта грудь ужасно томилась, потому что кругом всё были неудовлетворительные кавалеры.
— Просто вы не поверите, — жаловалась она мне, — хоть бы один человек… Всё мумии какие-то! Карты, охота… Двух слов путных не услышишь!
Я немедленно попросил позволения представить Алешку… Приятель мой. Так его все товарищи называют: Алешка да Алешка. Очень живой человек.
— Алешка-то! Да ведь это какая-то ходячая тенденция. Я о нем слыхала… Впрочем, познакомьте! — прибавила она.
Я познакомил, а он, не будь плох, барыню с пути истины совратил. То есть не то чтобы совсем совратил, но она в акушерки поступила.
Малый большого роста, брюнет. Впрочем, знакомые никогда не говорили о нем — «брюнет», а почему-то — «черномазый», а о волосах — «волосатый», о лице — «рожа». Я не разделял такого мнения: лицо как лицо, даже очень недурное лицо, выразительное, с прямым носом, небольшими усами, бородой и несколько хитрой улыбкой. Платье — самое партикулярное и полинялое; голос двоякий: тихий и мягкий, с ироническими нотками в разговорах так себе, вообще; но громкий и глубокий, когда дело шло о материях повыше. Впрочем, за время нашего знакомства второй голос у него прогрессивно уменьшался.
Это признак зрелости. Многие молодые люди обладают только вторым голосом. У таких лицо восторженное или свирепое, глаза горят и смотрят серьезно, неподвижно, как у богов, и словно командуют: «Равняйсь!» И собеседник равняется; чувствует, что ему ни вправо, ни влево своротить или пошалить не дозволяется; а если, Боже сохрани, хоть крошечное низменное шило где-нибудь высунется, тогда одно спасение: уходить поскорее. Молодой человек обдаст его таким презрительным взглядом, что хоть сквозь землю провалиться! Алешка скоро освободился от такой односторонности. Он, некоторым образом, подобно Прудону, мог с большим аппетитом обедать в обществе, например, станового, который ошибочно принимается молодыми людьми за простое вместилище всяких мероприятий. Все мы люди, все человеки, и у станового, сверх мероприятий, всегда найдется достаточно материала для юмористических наблюдений.
Читать дальше