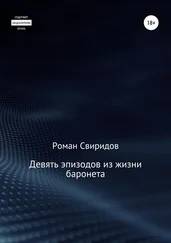«Милая… Высокопочитаемая… Ангел мой…
Марфе — 2 руб. Самовар — 12 руб.
Наталья Семеновна! Нас окружает ужасная интрига… Злые глаза следят за мною и не дают мне возможности видеться с вами. Пишу к вам уже второе письмо; первое было перехвачено… Я должен объявить вам тайну… Если к вам явится белокурая полная женщина, не первой молодости, и станет делать… говорить неприятности (она угрожает, от нее всё станется), то, пожалуйста, не подумайте чего-нибудь… Это моя жена… Да! я женат, и это мое несчастье, потому что я безумно люблю вас… Если вы можете подняться над предрассудками… Если так называемая незаконная связь… Если вы не побоитесь… то сами назначьте день… или мы расстанемся навеки, и я не перенесу этого удара!!»
Эта фантастическая жена Вольдемара как громом поразила Наталью Семеновну. Она не знала Зизи даже по имени, но полная белокурая дама, не первой молодости, засела в ее воображении и не отходила от нее ни на минуту. Когда в голове дамы засядет другая дама, то томительнее ее положения и представить себе невозможно: оно, как говорится, хуже губернаторского, что, впрочем, и понятно, если хорошо взвесить то обстоятельство, что губернатор все-таки мужчина. Если б и случилось так, что в голове мужчины засел другой мужчина, то к услугам первого всегда нашлись бы «принципы», «вредные идеи» и другие верные средства избавиться от неприятного соседа; а неопытная девушка разве может выдумать что-нибудь подобное? Никоим образом и в голову ей не придет. Всё, что она может сделать, это строго проанализировать свое и его душевное состояние, сравнить права соперницы с собственными правами (о, конечно, с правами! Кроме формальной законности, есть еще кое-что другое, должно быть другое, если справедливость не пустое слово!) и на этих данных построить философию, которая дала бы твердую точку опоры для практического решения вопроса так или иначе; другими словами, ей остается серьезно засесть за роман.
Первое дело — он . Теперь уже нет нужды до мелочных наружных описаний. Пусть себе и курит и даже халат надевает! Важно не это: важен его внутренний мир. Надо туда заглянуть критическим, беспристрастным оком…
Гм… «О чем он думал?…»
«Странное дело! не могу написать ни одной строчки! Как только возьмусь за перо, сейчас представляется насмешливое лицо А. (Алешки), и я бросаю. Мне даже слышится его голос: "Что, барышня, чувствительные кружева плести хотите?" Я никогда не слыхала от него этой или подобной фразы, но мне почему-то кажется, что он непременно выразился бы таким образом, если б узнал, чем я занимаюсь. Каждый раз я чуть не громко отвечаю на этот воображаемый вопрос: "Не плету, а распутываю…" Его что-то давно не видать. Хотелось бы мне говорить с ним обо всем откровенно. Я привыкла к его обществу. С ним можно ладить, стоит только не обращать внимания на первую половину его визита, когда он как-то ломается, говорит с подчеркиваниями, с претензией на остроумие и иронию, и спокойно ожидать, пока, сначала будто нехотя, а потом всё больше и больше увлекаясь, он заговорит о чем-нибудь горячо и страстно. Он, в сущности, очень добр. Я как-то спросила, что значит «экспроприация» и «дивиденд». Он объяснил и назвал меня Аркадией. "Самых, говорит, современных слов не знаете". Это хорошо. Аркадия так Аркадия! Лучше, чтоб он имел обо мне настоящее представление. Я часто скорее догадываюсь, чем понимаю его, и мне было совестно: а ну он вдруг заметит! Как будто надуваешь его… А как он умеет говорить! Замечательно, что сильное одушевление выражается у него только блеском глаз, а щеки бледнеют. Нравится мне в нем эта убежденность и самая резкость языка. Оттого в его словах даже не новые мысли получают новое освещение, новый смысл. Если б кто-нибудь другой сказал при мне: "Весна и расцвет жизни", то такое выражение показалось бы мне натянутым; но у него это вышел не риторический оборот: он сам в эту минуту олицетворял собою весну жизни, и стоило только взглянуть на него, чтобы почувствовать, какая это, в самом деле, прекрасная минута… Но я что-то очень его расхваливаю… Не начинаю ли я…
Нет… Милый, дорогой! Никакая привязанность не вытеснит тебя из моего сердца! Напротив, при виде этой силы и самоуверенности мне становится еще дороже твое задумчивое, печальное и нежное лицо! Я обязана прийти к тебе на помощь, бедный страдалец, поднять, ободрить, оживить тебя…»
Последняя тирада относится к Вольдемару. В халате серого драпа (40 руб.), с сигарою в зубах, причесанный и напудренный, но с разбитым сердцем, бедный страдалец сидел в эту минуту у камина, с терпением, достойным лучшей участи, поддерживая прислонившуюся к нему Зизи, и утешал себя размышлениями в следующем вкусе:
Читать дальше