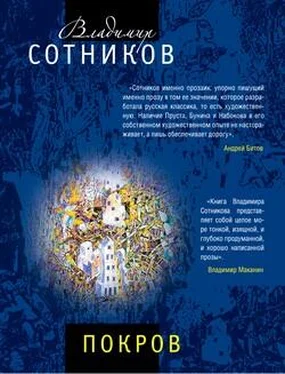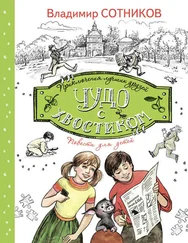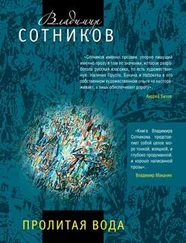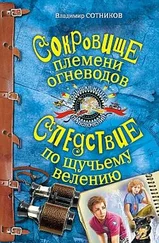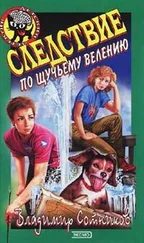– Ба, а можно я у вас поживу?
Она и не остановилась, на ходу ответила:
– Переходи, если хочешь, и нам веселее будет.
Мать с отцом дома удивились моему желанию, шутили:
– Плохо тебе дома, не нравится – со старыми ж хуже жить. Они уже ни во что не играют.
Спал я на деревянной кровати в дедовой спальне. Матрас был скрипучий, из сена, и ночью я старался не шевелиться, чтобы не скрипеть. Запахи в доме были незнакомые. «Наверное, оттого, что жили тут старики», – решил я. Тогда я впервые догадался, что у каждого дома свой запах. Как-то особенно, по-старчески, пахли и дедовы полушубки, гимнастерки, в которых он все время ходил, подушка, на которой я спал, – я думал, что на ней кто-то умер, и ложился обычно на спину, чтобы не вдыхать этот запах.
Дед всегда проверял мои уроки. Однажды спросил, что нам задали учить на память. Я как раз сидел и про себя, не вслух, учил: «Гляжу, поднимается медленно в гору…» Дед заставил прочесть вслух. Я кое-как промямлил.
– Так нельзя стихи читать. Надо с выражением, с интонацией. – И дед, показывая руками и хмуря брови, громко начал: – «Однажды, в студеную зимнюю пору…»
Я застеснялся, я не мог представить, что стихи можно читать дома и даже вслух. Дед читал медленно, не торопясь, а я думал, что это для того, чтобы не забывать слова. «Плохо помнит», – решил я.
В школе я, глядя в окно, пробубнил все быстро и получил пятерку.
Когда становилось по вечерам темно, бабушка запирала сени, сильно притягивая к себе дверь, потом садилась за стол и подолгу – перед сном – глядела в верхнее стекло окна, быстро моргая.
Иногда всплакивала, кривя лицо, через минуту, вспомнив другое, светлела, встрепенувшись, и усаживалась на стул удобнее.
Хотя я и не просил, она часто рассказывала о своей семье. Рассказывала о моих прабабушке и прадедушке, дядьях, тетках… Я слушал, но чего-то не хватало для меня в рассказах – все казалось чужим, словно со стороны. Не было того, что я ожидал. Мне хотелось, чтобы она сказала, как они там давно знали, что буду жить я, что знали они, как у Антонины, моей матери, родятся дети, и еще тогда что-то подготавливали для нас – не знаю, что же я хотел услышать… И с каждым таким вечером все, о чем говорила бабушка, казалось мне не существовавшим никогда, не связанным с нашим домом, который стоит на другой улице, где есть сейчас мать, отец, брат. Бабушка говорила о дядьях – братьях моей матери, а я все больше и больше чувствовал себя в гостях и все больше ждал дня, когда я наконец уйду домой, к себе.
Однажды я возвратился из школы, а у Карпекиных сидят, не снимая пальто, родители и брат. Бабушка говорит им:
– Раздевайтесь, что вы так сидите, погуляйте у нас – сейчас обедать будем.
Брат, увидев меня, начал расстегивать свою куртку, но потом опять застегнул все пуговицы. Мама подошла к нему и помогла застегнуть тугой крючок у самого горла. Брат стоял теперь у двери, ему было жарко, он смотрел то на меня, то на отца, хотел уходить. Потом они попрощались, столпившись в дверях. Я тогда первый раз в жизни услышал, что мать мне сказала: «До свиданья, сынок», – как чужому. Я видел в окно – домой они пошли не кругом, по улице, как всегда ходили мы зимой, а напрямик, через поле. Наверное, там была проложена тропинка.
Я представлял, как они идут – отец, за ним брат, спотыкаясь в глубокой и неровной тропинке, и, чуть отстав, за ними идет мама – варежки ее болтаются как неживые, это она сжала пальцы в кулаки, чтобы было теплее. Они идут, оступаясь в снег, поглядывая, близко ли уже. А впереди, ниже поля, посреди разных домов нашей улицы, смотрит навстречу, ожидает – такой родной наш дом.
В тот день я дольше обычного делал уроки – сидел, не поднимая головы, уставившись в книгу.
Прошло еще время. Я учился хорошо – дед радовался этому, задавал мне иногда свои задачки – про воробьев на ветке, часто подшучивал надо мной. Когда я учил уроки, он молчал и смотрел в окно. С бабушкой он почти не разговаривал.
Бабушка иногда рассказывала и о нем, но мне это казалось еще большей неправдой. Если все было так, как рассказывает она, так почему сам дед об этом не говорит? Он часто, когда я просил, показывал свои ордена и медали, я смотрел на них – и как они были не похожи на то, о чем говорила бабушка!
Все свои рассказы она повторяла почти через вечер – зачем?.. И в последний вечер моей жизни «у Карпекиных» опять – в который раз! – рассказывала о своей матери, бабе Акулине. Когда я в первый раз слушал, какая баба Акулина мудрая была, мне нравилось, я хотел представить ее и видел свою бабушку, только большого роста. Бабушка с такой же интонацией, одинаковым позавчерашним голосом говорила, как Акулина выдавала замуж своих дочек, как наводила справедливость в семье. Я при этом думал о своем, но бабушкины слова отзывались во мне, и в тот вечер я особенно мучился моей игрой: повторением какого-нибудь слова. Помню, что страшнее всего для меня было слово «халва». Я представлял, как в магазине на жирной бумаге лежит огромный кусок халвы, и повторял: «Халва, халва», – и хотя кусок этот на жирной бумаге оставался неизменным – всё над ним рассыпалось в прах, и не хотелось больше повторять, но словно тянул кто за язык… Я смотрел на бабушку, быстро отводил взгляд и невыносимо хотел домой. Я думал, что пойду домой и просто там останусь. Так оно и случилось назавтра.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу