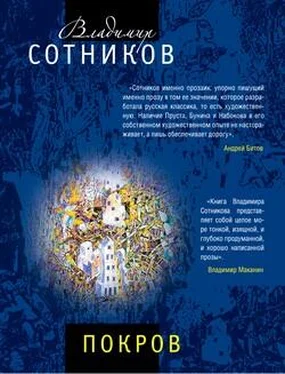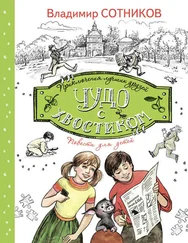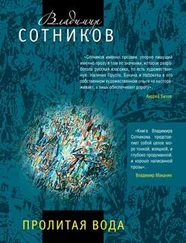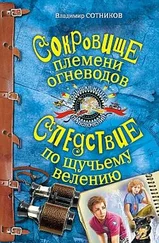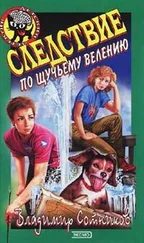В последнюю перед отъездом из дома весну он ходил за плугом, когда сеяли картошку. Отец водил лошадь, часто давая ей отдохнуть. Они останавливались, оглядываясь вокруг, а лошадь всегда смотрела себе под ноги. От нее шел пар, и от земли поднимался густой воздух, и запахи смешивались. Хотелось говорить с отцом – всегда приятная работа вызывала такое чувство: кажется, хочется что-то сказать, и одновременно знаешь, что некогда, да и что выбрать из тех непроизносимых слов, что плывут, как непрерывный отвал земли от плуга перед глазами. При остановках, оглядываясь вокруг, видя далекое темное поле, синий за ним лес, он словно набирал воздуха для слов, но их не было – они растворились, исчезли за неясным желанием запомнить все виденное, не проронив ни одной капли, без которой неизбежное воспоминание об этом дне будет неполным. И весь этот день, даже затухая к вечеру, не исчезал, а переносился в будущее, забирая с собой слова, которые сейчас нельзя было сказать.
Когда закончили, и перепаханная земля приподнялась, храня в себе еще неразличимые борозды, и лошадь уже стояла у сарая, он вышел на улицу, удивляясь тишине, окружившей дом. И удивление тоже принадлежало не только этому дню, но и неизвестному будущему, в котором вдруг окажется ясным и даже названным неизбежными словами.
Он сел на скамейку, почувствовав, как она постарела – еще год-два, и кто-нибудь провалит ее, и останутся только столбики с загнутыми букетиками ржавых гвоздей. Но сейчас было как раз то время, когда скамейка нашла наконец самое естественное положение – и наклон к забору, и выпуклость поверхности с продольной трещиной, и еще что-то, самое главное, что состояло только в единстве и неотрывности друг от друга и скамейки, и забора, и корявой яблони с редкими листьями – совсем старуха, – и огромного столба с подпоркой. Было тихо, безветренно, но столб гудел, и тишина была не пустой, а все же осязаемой через этот гул.
Он посмотрел вдоль старого забора, по всей его ребристой поверхности, и вспомнил, как выглядели эти палочки, когда они с отцом их прибивали – перед этим чистили от коры ножом, и ладони надолго оставались потом бурыми, он даже старался их вымазать побольше, специально натирая о скользкую, только что оструганную ольховую палку. Сейчас забор даже уже не стоит, а висит на столбиках – наверное, они дубовые. Да, отец тогда и говорил, что дуб в земле может оставаться крепким сто лет. «Что ты, как камень, будешь пилить – только искры», – и брызгал руками, показывая искры.
И когда, уехав из дома, он сидел в непривычной комнате, высоко над шумной улицей – внизу гудят машины, торопятся люди, – взгляд, которым он смотрел в тот день, когда дома сеяли картошку последней перед отъездом весной, соединился, наконец, со словами, завершающими круг на первой странице только что купленной тетради.
Написанные, слова вдруг обрели совсем другой, неожиданный смысл, бессильные найти во времени свое потерянное место. Но уже нельзя избежать их притяжения – и одновременно удивление и радость вспыхивали в словах, завершающих воспоминания.
Давно рассказанный отцом случай – колхозный конюх убил кобылу – стал чуть ли не придуманным, и страшно даже представить, что подумал бы отец, прочитав несколько страниц, озаглавленных словом «Смерть».
Когда он писал, то видел, как впервые появляется картина и становится все явственнее: двор фермы, кобыла в углу ограды, конюх по имени Тишка – и неизбежность соединения всего вместе требовала новых слов, остающихся здесь навсегда. Слова, попадая в его же собственный взгляд, становились единственно возможными – казалось, он знал это всегда и сейчас только увидел, наконец, эти строчки. «Чувство необратимости случившегося заполнило Тишку, тупо гудела мысль, растекаясь по всему двору, забирая в себя и баб, и грязное сено, и все-все, мысль неясная, но большая и страшная: «Если бы не это, как все было бы хорошо, все же было хорошо, и так было бы дальше, если бы не это…» – расплывалась эта не объяснимая словами мысль утраты покоя, в глубине уже обещая что-то чистое и раньше неизвестное, что должно прийти вслед за ней. Тишка почувствовал вдруг, и даже удивился этому – что не любит он и этих баб, стоящих рядом с каменными лицами, и жеребенка, – мокрый воздух, неподвижно висевший над ними, казалось, не давал двигаться. Он стоял, нахмуренный, не зная, что говорить и что делать.
Жеребенок, раздувая ноздри, наклонялся к лежащей на боку кобыле. И не поднималась ни у кого рука отогнать его».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу