Их разработки, чертежи, рисунки, математические выкладки были остановлены распадом страны, крахом науки, смертью великих начинаний. Их институт закрыли, в нем хозяйничали американцы, вывозя секретную документацию. Янки предлагали Веронову и Степанову уехать в Америку. Веронов согласился, а Степанов остался в России на воде и хлебе.
В Америке Веронов недолго поработал в Хьюстоне, а потом познакомился с компанией художников, творцов современного искусства. Так родились его перфомансы. Так он погружал публику в стрессы, извлекая из этих стрессов небывалые переживания. Вернувшись в Россию, он несколько раз порывался отыскать Степанова, позвонить по его домашнему телефону. Но откладывал звонок. Откладывал встречу с прошлым.
За окном тихо шелестела Москва. Веронов слышал множество переливов, слабых всплесков, словно он лежал на отмели и на него набегали невидимые волны. Они неслись в мироздании, соединяли его с бесчисленными явлениями мира: звездами, цветами, атакующими танками, висящими на дыбе мучениками, девственницей, кричащей в объятиях насильника. Он слышал, как просачивается в мир, обретая волновую природу, его сегодняшнее действо – задранная борода иерарха, испуганный зев отца Марка, полное тоски лицо безусого семинариста.
Встал и включил телевизор. Сюжет, на который он натолкнулся, рассказывал о трех девочках – подростках, которые, взявшись за руки, с блаженными улыбками бросились с крыши двенадцатиэтажного дома. Так они и лежали в крови, взявшись за руки.
Веронов знал, что их роковой прыжок был связан с перфомансом. Когда он вскочил на стол, разрывая рясу, девочки подходили к краю крыши. Когда он танцевал, выкрикивая глумливые слова, они падали. Когда он убегал из зала, заматываясь в обрывки рясы, они уже были мертвы.
Этот сюжет не поразил его, а только изумил. Какая таинственная сила взаимодействует с его колдовскими действами? Ответа не было. Были три подруги, которые с улыбкой себя убили.
Пребывая в возбуждении, он не мог оставаться дома и отправился на вечеринку, которую устраивал один модный литературный журнал. Редакция журнала находилась не далеко от Чистых прудов. Там собирались писатели, поэты, актеры, безалаберные милые фантазеры, неизбежные спутники богемы, наполнявшие подобные вечеринки смешными разговорами и безобидными сплетнями.
Вечеринка проходила в ресторане: в зале были убраны столы, служители разносили напитки, гости снимали с подносов бокалы и рюмки, слипались в нестойкие группы, чокались, судачили, теряли друг к другу интерес, переходили из одной группы в другую, создавая в зале непрерывное кружение, в котором словно размешивался, какой-то невидимый раствор.
Веронов чувствовал свою принадлежность к этому сообществу, где все друг друга знают, дружат, недолюбливают, кидаются друг другу на помощь, вероломно отворачиваются. Где все нуждаются друг в друге, как друг в друге нуждаются лесные деревья, кусты, трава, грибы, мхи и лишайники – все то, что и называется лесом.
Так думал Веронов, посмеиваясь над собой, не зная, кем себя считать – жимолостью, желудем или сыроежкой.
– О, привет, Аркадий! – кинулся целоваться с ним писатель Цесерский, автор манерных, с претензией на модерн, эротических повестей. – Ну ты великолепен! – Цесерский был худ, с лицом молодящегося старика, с тяжелыми морщинами, добытыми не в тягостных раздумьях, а в страстных и порочных поползновениях. Он был одет в желтый пиджак, сиреневые штаны, на шее красовался шелковый розовый бант, и это экзотическое облачение соответствовало эстетике его повествований, модной, дорогой и безвкусной. – Слушай, твои последние перфомансы наделали шума. Это новое слово. Ты взрываешь все мосты, все храмы и все могилы, и мы любуемся летящими в небо осколками. Россию надо взрывать, взрывать и взрывать. Надо сделать русский народ очумелым. Чтобы он жил среди взрывов. Чтобы он сошел с ума и только потом прозрел. Русский народ – это бык с налитыми кровью глазами. Если его не бить, то этот бык забодает весь мир. Ты сражаешься с этим быком. Ты – тореадор современного русского искусства! – Цесерский смотрел на Веронова дружелюбно, но его коричневые, с розоватыми белками глаза таили тревогу, словно он ожидал от Веронова едкой насмешки, и своими комплиментами предупреждал возможность такой насмешки. – Ты знаешь, вышла моя новая книга «Отравленная лилия». Пришлю тебе обязательно, она в твоем вкусе. Я только что из Парижа, презентовал «Лилию». Огромный успех. Договоры на переводы, рецензии в «Фигаро». Ты знаешь, французы считают меня лучшим русским писателем. Что ж, я не мешаю им так думать! – Цесерский рассмеялся, но взгляд был по-прежнему тревожный – не прозвучит ли в ответ на его похвальбу желчное замечание, на которые был охоч Веронов. – Надо ехать на Запад, – произнес писатель с горьким вздохом. – Только там оценят наше с тобой искусство. Здесь, в России, мгла! Искусство не нужно. Власть жрет, народ пьет. До какой степени оскотинился народ! Русским отведено место в стойле, и они охотно его заняли, – его морщины стали горестными и обрели странное сплетение, переходя одна в другую, словно их выточил один и тот же червь, ползавший по лицу Цесерского. – В России все гадко – власть, дороги, автомобили, книги, котлеты. Одно хорошо – это женщины. «Волосатое золото», как их называют. Я возвращаюсь из Парижа в Россию, только для того, чтобы насладиться русскими женщинами. У них особые пальчики, особые соски, особые губки. У русской женщины особое выражение глаз, когда ты доводишь ее до экстаза, а потом делаешь ей больно. Их глаза меняют цвет. Я описал это в моей книге «Русские прелестницы». Ну, ты читал, конечно, – и он, забывая о Веронове, отошел, мелькая среди гостей канареечным пиджаком и сиреневыми штанами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу







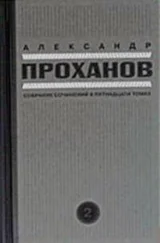

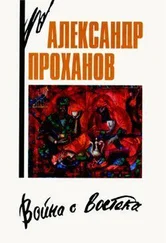

![Александр Проханов - Скорость тьмы [Истребитель]](/books/411143/aleksandr-prohanov-skorost-tmy-istrebitel-thumb.webp)