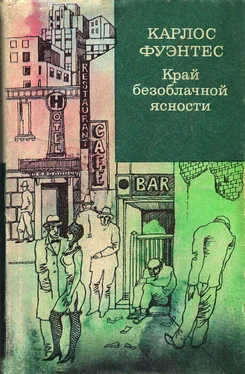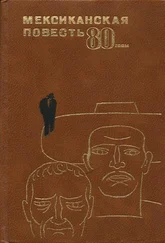У Родриго так засосало под ложечкой, что он не смог дальше слушать речь директора; он понял, что отец Вальес вступил в игру, стал ее третьим участником. Он обернулся и хотел было что-то шепнуть Роберто, который стоял позади, но улыбка и торжествующий блеск в глазах приятеля остановили его. Директор ничего не разъяснил. Мальчики высказывали разные догадки, приписывая отцу Вальесу всякого рода преступления:
— Наверное, его застали с женщиной.
— Не будь дураком: такие не любят женщин.
— Наверняка он прикарманил пожертвования.
Во дворе Родриго с потными от волнения руками подошел к Роберто и спросил его прерывающимся голосом: «Он вошел в игру?», — а Роберто ответил, хохотнув: «И еще как! Ведь у него в комнате нашли книгу». — Засунув руки в карманы, он переваливался с каблуков на носки. «Нашу книгу? Но как же так… как она могла туда попасть?» — Родриго хотелось плакать, и он едва не закусил губы. «Это я ее подложил. А потом рассказал папе, чем забивает мне голову этот священничек, и папа потребовал, чтобы его выгнали, если не хотят лишиться ежегодной субсидии, которую получает от него коллеж… а так как субсидия больше, чем плата за сорок учеников, сам понимаешь…» — «Значит, это была не священная игра», — хотелось сказать Родриго, не бросить в лицо товарищу, а просто сказать, и все; но Роберто начал подкидывать в воздух монету. «А теперь я уезжаю в Гуанахуато, к себе на родину. Там живут мои полоумные тетки, и они наймут мне частного учителя. Здесь мне уже обрыдло». — И у Родриго, следившего за монеткой, которую Роберто подкидывал и ловил с акробатической ловкостью, к горлу подкатил ком: «А наш договор?» — только и смог он выдавить из себя (желая этим сказать: ты мой единственный друг, ты придумал игру, а теперь мне остается только долгими часами торчать на крыше да смотреть, как вяжет мать; один я не могу играть в эту игру, ты мой единственный друг, не уезжай). Роберто ушел, играя монетой, а Родриго остался во дворе. Носком ботинка он царапал дерево, а в голове у него вертелись соответствия, теперь уже утратившие священный смысл: старая мать, шоколад, вера, шишка, милосердие, зеленый свет
Мерцание реклам пива и страховых компаний, рома и газет осветили трепещущим светом лица Икски и Родриго. В центре высился Карл IV, командуя движением грузовиков и такси, а с белого здания, у которого толпились унылые продавцы лотерейных билетов, приходившие сдать оставшиеся, громкоговоритель выкрикивал выигравшие номера. По улице Росалес с лязгом и скрежетом проезжали желтые трамваи, на углу Колон стайкой прохаживались женщины, смачивая слюнями брови и порванные чулки, а вниз по Букарели бежали, хлопая друг друга по спине и дразня черно-белого пса, с десяток мальчишек в комбинезонах, которые только что распродали вечерние газеты и теперь направлялись в Аламеду или в Кармен прикорнуть на скамейке или на паперти. Родриго, помешкав, двинулся через улицу Букарели.
— Зайдем к Кико выпить кофе. Мне еще не хочется залезать в свою конуру.
Потолкавшись среди толстых в зеленых габардиновых костюмах и тощих, плохо выбритых мужчин, женщин с сальными волосами и чубатых парней в джинсах, опускавших в автомат-проигрыватель монетки в двадцать сентаво, друзья отыскали свободный столик.
— Какие девки у Чаито! Вот это бордель!
— Jive, boy, jive! [71]
— А что ты скажешь об этом ударе сверху? Лихо, черт побери! Паренек свое дело знает!
— Он воображает, что, если я его подчиненная, он имеет право на все.
— Jive, boy, jive!
— Увеличение заработной платы?
— В это время мать повысили в должности, а я остался в школе один. Роберто уехал, а он был мой единственный друг. Теперь, когда я лишился покровительства Регулеса, богача, чей отец субсидировал школу крупными суммами, все ребята принялись насмехаться надо мной и щелкать меня резинками по ногам,
Пола, Пола, Пола гад, поцелуй-ка меня в зад
а я притворялся больным, чтобы не ходить в школу. Я начал покупать книги на деньги, которые мать по воскресеньям давала мне на кино и мороженое, и читать их на крыше, пока не заходило солнце; спускался, прежде чем мать возвращалась из центра, ужинал и уходил в свою комнату читать; и тогда мама стала по вечерам усаживать меня возле себя и говорить, не отрываясь от вязания: «Ты никогда не рассказываешь мне о своих планах, сынок; что ты собираешься делать?» Но я не отвечал и думал о магических словах, которые уже ничего не означали, или о «Виконте де Бражелоне», или о резинках, от которых у меня были синяки на ногах. Как она говорила? «Помни, каким бы одиноким ты ни был, у тебя есть мать, которой ты всегда можешь довериться и все рассказать. Ты уже взрослеешь, и если не будешь рассказывать матери все, что с тобой происходит, тебя одолеют сомнения и ты не сможешь ни в чем разобраться», а я оглядывал нашу маленькую гостиную, общую комнату нашей семьи, состоявшей из меня, матери и призрака отца, лампу под абажуром из зеленого бархата; стол с блюдом для фруктов, от которого пахло гнилью, и жесткие стулья вокруг него; плетеное кресло-качалку, в котором по вечерам сидела мать за вязаньем или шитьем; диван, тоже плетеный, тоже обшарпанный; деревянный потолок, покрашенный розовой краской; окно с ситцевыми занавесками; дверь с бронзовым колокольчиком. И только теперь, когда я слушал эти слова матери, мне пришла в голову мысль, что мне предстоит когда-нибудь покинуть этот дом, оставить позади эти чашки шоколада и клубки ниток, и я безотчетно подумал, что, как бы далеко я ни ушел, мать не останется одна, потому что с ней всегда будет призрак с нафабренными усами и бравой улыбкой, и, должно быть, она поняла это — как понимала многое за минуту до меня, словно угадывала по моим идиотским, широко раскрытым глазам все, что я думаю, словно только благодаря мне, но всегда за минуту до меня, она могла узнавать некоторые вещи, — и поэтому никогда не возвращалась к тому, что сказала мне в тот вечер, никогда не повторяла эти легковесные слова, которые не нашли у меня отклика, которые я никогда не считал верными и которые, как я вижу теперь, лишь выражали ее желание как бы вобрать меня в себя, удержать в своем лоне и всегда, до конца наших трех жизней, неустанно производить меня на свет в нескончаемых родах, длящихся днями и ночами и годами, вечных родах, в которых она будет черпать силы и сознание своей правоты и которые возвысят ее, как монумент, воздвигнутый на плаценте, как воплощение матери-природы, живой и наэлектризованной природы, равнодушной к жизни людей, к городской суете, к проектам и бумагам — ко всему, кроме своего единственного непрерывного акта: акта рождения. Поэтому, когда я спросил ее: «Папа хорошо относился к тебе?», она все поняла, все прочла в моих идиотских, широко раскрытых глазах и, уронив спицы на подол, закусила губы. Слова, которые она произнесла, Икска, необъяснимы, как своевольная природа, как мать, для которой существует лишь одна подлинная правда — разверзающееся лоно, длящийся всю жизнь момент родов, и, как бы ни толковать эти слова, я их никогда не пойму. Она сказала: «Твой отец был трус, который выдал своих товарищей и умер как дурак, оставив нас в нищете».
Читать дальше