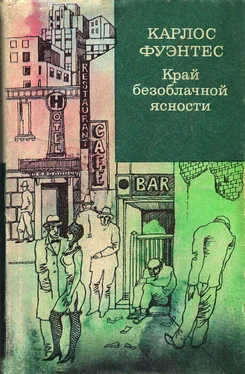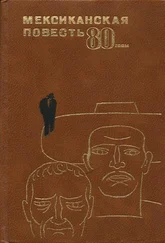Роблес уронил руку. При сильном возбуждении его лицо приобретало цвет аспидной доски: кожа, которую так тщательно маскировали кашемир, тон рубашки и галстука, побрызганный одеколоном носовой платок, снова становилась кожей индейца.
— Мы владеем всеми тайнами. Мы знаем, что нужно стране, понимаем ее проблемы. Нет другого выбора, как терпеть нас или снова впасть в анархию. Но анархии не допустит средний класс.
Икска Сьенфуэгос не спеша погасил сигарету и подошел к окну, сверкавшему в лучах солнца, уже клонившегося к закату: был четвертый час.
— Вы большой хитрец, Сьенфуэгос, но вот что я вам скажу. Не воображайте, что я доверяю вам или что я говорю только ради удовольствия послушать свой собственный голос. Вы знаете больше, чем показываете, и хотите в подходящий момент припугнуть меня. Потому я и рассказываю вам о себе — чтобы вы знали, с кем имеете дело, вот и все.
Сьенфуэгос ответил на это искренней и дружелюбной улыбкой, от которой суровые черты Федерико Роблеса невольно смягчились. Смеющиеся глаза Сьенфуэгоса поглощали весь облик банкира, одновременно подтянутого и обрюзгшего, а на языке у него вертелись слова из другого интервью, сказанные другим человеком, пришедшим к власти в истинно мексиканском духе, другим настоящим чингоном: «Мексика имеет теперь свой средний класс. Средний класс — наиболее активный элемент общества. И у нас, и во всем мире. Богатые слишком поглощены своими богатствами и привилегиями, чтобы способствовать общественному благу. С другой стороны, нуждающийся класс, как правило, слишком невежествен, чтобы осуществлять руководство. Развитие демократии будет зависеть от деятельного, трудолюбивого, прогрессивного среднего класса».
Не переставая улыбаться, Икска подумал, что Роблес и внешне напоминает Порфирио Диаса: такие же широкие крылья носа, такие же глаза, как у ящерицы, такая же тщательно набеленная кожа. Банкир в последний раз пососал едва не погасшую сигару.
— То, что я вам говорю, Сьенфуэгос, настолько верно, настолько правильно выражает глубокий инстинкт страны, что даже наиболее левые правительства форсированным маршем шли по пути, который ведет к буржуазной стабильности. Мексиканский капитализм должен быть благодарен двум людям: Кальесу и Карденасу. Первый заложил его основы. Второй дал ему реальное развитие, создав широкий внутренний рынок. Он повысил заработную плату, дал рабочему классу всякого рода гарантии, добиваясь, чтобы он чувствовал, что его интересы охраняются, и не затевал беспорядков, окончательно установил политику государственных капиталовложений в общественные работы, увеличил кредиты, перераспределил земли и достиг во всех сферах широкой циркуляции лежавшего под спудом богатства. Таковы реальные факты, имеющие непреходящее значение. По сравнению с ними его вредная демагогия, на мой взгляд, отступает на второй план. Если бы Карденас не придал рабочему движению официального характера, последующие правительства не могли бы спокойно работать и увеличивать таким образом национальный доход. После него Мексика может быть чем угодно, только не страной латифундий, управляемой бесполезной аграрной плутократией. Она может иметь свою плутократию, но только такую, которая создает рынки, открывает возможности использования рабочей силы, двигает Мексику вперед. Мексиканская революция оказалась мудрой: она рано поняла, что для того, чтобы революция была эффективной, эпоха борьбы должна быть краткой, а эпоха подъема длительной. И она ничего не оставила на произвол судьбы. Все ее акты были взвешены. Каждый раз пост президента занимал именно такой человек, какой нужен был в данный момент. Вы представляете, что было бы, если бы эта бедная страна оказалась в руках Васконселоса, Альмасана или генерала Энрикеса! Мы просто пропали бы… Технические и административные кадры Мексики сформировались, и их нельзя заменить первыми попавшимися выскочками. На этом поставим точку.
Федерико Роблес, вздохнув полной грудью, застегнул свой двубортный пиджак. Икска заподозрил, что своей полнотой он обязан искусству портного: и ее требовала политическая мимикрия.
— Моя жена ждет нас с аперитивом, — сказал Роблес и задернул тюлевые занавески на окне кабинета.
Норма Ларрагоити де Роблес с тампонами на веках подставляла обнаженное тело лучам жгучего и расслабляющего солнца. Они проникали сквозь тампоны и веки, и глаза ее воспринимали светило, как два расплывчатых яичных желтка. Солнце — плоское и пустынное солнце Севера, а потом высокое, изъязвленное, темное солнце Мехико — и было первым воспоминанием. Первым воспоминанием и первым началом бытия; ей захотелось отдаться солнцу, почувствовать, как семя светила обжигает ее чрево, самой стать солнцем, и, палимая зноем, она, как в бреду, произнесла и несколько раз повторила свое собственное имя:
Читать дальше