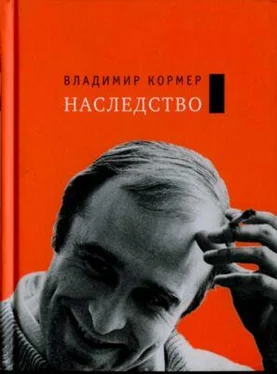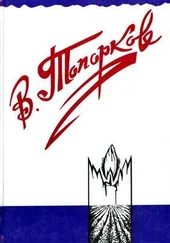Соседка застучала в тонкую перегородку у кровати, где прежде была дверь в смежную комнату. Сумасшедший понял, притих.
— Ну хватит, хорошо, — сказал Мелик безнадежно. — Так кто ты такой?
— Я тебе уже сказал! — амбициозно и припадочно заорал тот. — Я твой отец, единокровный и единородный! Я путник! Согрей меня, приюти меня! Блудный сын, — погрозил он вдруг пальцем. — Ты являешься блудный сын, который явился к своему отцу!
Он вскочил, и Мелик отшатнулся, думая, что тот опять вознамерился обнять его. Но самозванец-отец только затоптался на месте, кружась вокруг своей оси; Мелик не сразу понял, что тот и в самом деле выискивает, где бы поудобнее устроиться лечь.
— Эй, у меня негде, ты же видишь, — окликнул его Мелик, чувствуя, что опять стал побаиваться.
— Ничего, ничего, сынок, — забормотал сумасшедший, проворно садясь на пол между столом и кроватью и стаскивая сапоги. Вот так, вот так, по-простому, по-солдатски. Молодец, сынок, — приговаривал он. — Молодец, не забыл старика. Большая польза тебе от меня будет. Ложись, ложись, утро вечера мудренее…
Мелик ощутил уже по-настоящему безотчетный, отчаянный страх.
* * *
Он, однако, еще долго пререкался со стариком, несколько раз пробовал выставить его совсем, начиная кричать и даже топать ногами, но в глубине души сознавая свою беспомощность перед властью этого человека. Уже смирившись, он зачем-то пытался уговорить его все-таки лечь на кровати, а не на полу, и наконец, сдавшись совершенно, видя, что тот не отвечает и, отвернувшись от него, спит, подложив под голову кепку и натянув на уши пальто, Мелик выключил свет, перешагнув через спящего, присел на кровать, помедлив, снял брюки и, оставшись в трусах и рубахе, лег сам.
Заснуть он не мог, несмотря на усталость, и долго лежал, отупело прислушиваясь к тяжкому сопению и храпу своего ночлежника. Сначала он решил вообще не спать, карауля, чтобы застигнуть того, когда он станет шарить в его бумагах. С полчаса или больше он усмирял свое дыхание, стараясь различить — и оттого путаясь в них еще больше — неясные ночные звуки: неслышимый днем стук оторвавшейся жести где-то под его окном, шорох осыпающейся за обоями штукатурки, вой лифта и какие-то другие скрипы и стоны, природы которых он понять был не в силах. Потом ему стало стыдно. Он сказал себе, что все это ни с чем не сообразно, искать в его бумагах нечего и целью прихода этого человека не могла быть такая простая штука. Он повернулся на другой бок, собираясь заснуть, но полной успокоенности все же не наступило, и, должно быть, от этого заново ощутил жесткость и неудобство своей кровати.
Несколько лет назад, когда он вообразил себе, что сможет быть аскетом, не пить, не курить, не знать женщин и, став вегетарианцем, питаться только растительной, овощной пищей, он сделал себе из досок эту кровать, выкинув стоявший здесь прежде пружинный матрац, доставшийся ему в наследство от троюродного брата. Первое время он и спал прямо на досках, едва прикрыв их старым одеялом. Но аскетическая жизнь прервалась сама собою, хотя бы уже потому, что никакое общение с приятелями помимо водки было невозможно; а потом, после того как у него переночевала здесь женщина, сначала одна, затем еще несколько, и он каждый раз нелепо и смущенно извинялся, что так жестко, и среди ночи они перестеливали сбившееся одеяло, свертывая его вдвое, и подкладывали свои пальто и какую-то другую одежду, он, в конце концов разозлившись, выпросил у соседки старый ватный тюфяк (заставить себя пойти в магазин и тащить затем тюфяк по улице он не мог). Теперь он почувствовал, что и этого, слежавшегося и, кажется, даже попахивающего какой-то дрянью тюфяка ему стало мало. Кости его заныли, как будто это он, а не пришелец спал сейчас на голом полу.
Затем он испугался, что не сумеет заснуть, тогда как наутро ему необходимо придется снова вступить в борьбу с этим человеком. Он поспешно прикрыл воспаленные веки. Тотчас же перед глазами поплыли радужные, оранжевого спектра круги и начались шорохи и стуки. Тело тоже проплыло прочь. Мелику показалось, что голова его раздалась, стала пухнуть, расти все больше и больше, до чудовищных размеров. Черепная коробка не могла выдержать этого. Ужас инсульта вдруг обуял его.
Затем все стало, наоборот, уменьшаться, он словно издали, сверху видел свои крошечные руки и ноги, себя, как скрюченного зародыша, прижавшегося с краю кровати. Воспоминания о детстве — об одном ощущении, всегда возникавшем в состоянии полубреда или при температуре, — мелькнули и исчезли так быстро, что он не смог его осмыслить и только исполнился нежностью и жалостью к себе, когда на него повеяло своим, родным и детским. Смешная мысль: а вдруг старик сказал правду насчет своего отцовства, — неожиданно пришла к нему. «М-да, папаша, отец родной, — подумал Мелик, изучая темный контур спящего и пытаясь отыскать в нем свои черты. — Ну, если итак, то волосом-то я не в тебя», — сказал он. Он представил себе мать, которую почти не помнил, какой она была на фотографии, в кудряшках, смеющаяся. «И связалась же с таким мурлом, — подумал он, стараясь сообразить, каков же был этот человек в молодости. — Да нет же, все это бред», — решил он.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу