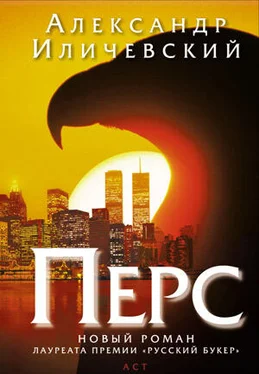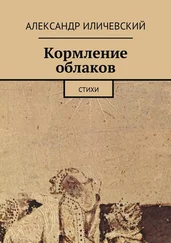На каких только работах мы не пропадали. Везде и всюду я фотографировал. Я стервенел с этими кадрами, спохватывался и давился стыдом. Но егеря подбадривали меня. Они любили фотографироваться.
3
Хашем не имел права оголять фронт в Ширване дольше, чем на две недели, да и трудно было долее снести эту каторгу. Как-то раз Аббас привел к Ахмеду мужчину — Кули, он представил его Хашему. «Хочет землю таскать». — «Тяжелая работа. Тебе надо?» Кули, изможденного вида человек с нехорошо горящими глазами, поспешно закивал. Хашем помолчал. Потом сказал: «Ладно». Кули оказался мужем Зейнаб, соседки Ахмеда. Месяц назад он вернулся из Курска, где работал на стройке — на холоде заливал бетоном полы промышленных ангаров; вернулся больным какой-то внутренней болезнью, которую никак не могли врачи в России определить. Он немного отлежался и теперь присоединился к егерям. Работал Кули плохо, еще меньше, чем я, а долю в оплате Хашем ему не сокращал. И егеря возроптали (я же свои деньги не брал, чем вызывал восхищение). Тогда Хашем придумал Кули должность кашевара, которая до сих пор была сменной. Кули теперь стал постоянным поваром, покупал продукты, заваривал чай. Он всячески старался услужить егерям и Хашему. А я видел, как ему трудно было после работы возиться с готовкой, и старался помочь. Я придумал варить кулеш — пшенную кашу с чем Бог пошлет: сосиски, колбаса, рыба. Егерям очень нравилось: вкусно и сытно.
Кули кланялся мне, это мне не нравилось. Дело в том, что еще до того, как Кули вернулся из России, я стал ходить к Зейнаб. Первый раз пришел из любопытства, принес конфет детям. Их у нее было трое, младшей девочке два года. Зейнаб обрадовалась, успела половину сластей спрятать, собрала на стол. Я отказался от еды. Заварила чай. По-русски она почти не говорила, а я молчал, только смотрел на нее. Она включила телевизор и уложила детей за занавеской. Черно-белый телевизор едва что-то показывал, звука не было совсем. Мы вместе стали настраивать антенну, дети выглядывали из-за занавески, смеялись, наконец утихли. Миска теплого риса, очень красивого, с шафраном, тающий кусочек топленого масла в центре. Чай. Треснутое блюдце. Я не желал ее поначалу и не собирался даже тронуть ее, я был у нее здесь только из интереса, чтобы просто посидеть и уйти. Я принес с собой фотоаппарат, но так и не снял крышку с объектива.
Она потянулась сама и все сделала. Когда я уходил, оставив под подушкой пятьдесят долларов, Зейнаб целовала мне руку. Один раз, когда мы все еще лежали, в закуток влетела девочка с куском обслюнявленного хлеба. Она протянула его матери, но испугалась меня, и я скрылся под одеялом. Мать что-то тихо сказала дочери. После того случая я долго не приходил к Зейнаб. Она сама пришла к Ахмеду, принесла егерям вареной картошки. Плеснув в миску щепоть сахару (примета не велит уйти с пустой посудой), она посмотрела на меня. Я снова стал к ней ходить.
И вот вернулся Кули, я перестал ходить к Зейнаб.
Как-то раз я собрался в Насосный к Керри, который не знал, что мы неожиданно отчалили на шабашку, и сам хотел приехать в Ширван. Я провалялся до полудня, умылся. Но тут к Ахмеду зашла за солью Зейнаб…
В этот день в первые часы работы Кули подвернул ногу, вот почему вернулся домой. Когда Кули вошел, я снова спрятался под одеяло. Зейнаб закричала. Я выглянул. Кули выбежал и вернулся, припадая на ногу, корчась от боли, теперь с топором в руке. Размахнулся. Ударил обухом по столу, сел на кровать, закрыл лицо руками, плечи его затряслись. Зейнаб перестала кричать. Оделась.
Скоро вышел и я, оставив пять сотенных, рядом с топором, прижав солонкой.
Всю ночь я не спал, мучился. Видел снова и снова, с закрытыми глазами, как Зейнаб дотронулась до Кули, положила ладонь между его лопаток.
4
В Ширване один раз меня накрыло всерьез, и я задумался о смысле смерти. Наверное, все равно, раз уж о смысле жизни давно было бесполезно думать, пришлось задуматься о главном. Мне приходилось хоронить родственников и видеть смерть вблизи. Сорвавшийся с пролета буровой высотный монтажник с животным воплем долго падал мне под ноги, цепляясь за снасти, белые пластинки черепа в кровавом месиве плоти и нефти. Старший брат уличного приятеля Игорька, первый парень на Артеме, ритм-гитарист на танцплощадке («Мы пьем до дна за тех, кто в море…», «Вот поворот, что он нам несет…», «Hotel California», «Ticket to the Moon»), не первый раз крепко выпив в семнадцать лет, перед тем как пойти домой, вышел к морю проветриться и умыться — упал и захлебнулся на мелководье. Его нашли наутро ничком в прибое. Помню Игорька, как он бежал в тапочках, будто старик, пришаркивая, по улице и, завидев меня, истошно закричал: «Серегу убили!» Помню красивое мраморное лицо Сереги, совершенно не имеющее ничего общего с живым, поразительно похожее на слепые лица античных статуй. Причесанный — впервые в жизни я видел русые волнистые его волосы приглаженными, — перед моими глазами он взмыл в гробу с табуреток и поплыл по проулку, устланному ветками кипариса, повинуясь маршевым волнам рыдающего оркестра. Передо мной прошла щека барабана, вздрагивающая грязным пролежнем, набитым колотушкой, и все кончилось. Еще раньше, в начальных классах, я пережил открытие своей личной смертности. Я провалялся целый день в истерике, то и дело заливаясь слезами при мысли, что когда-нибудь я исчезну вместе с этим огромным страстно счастливым миром: мир без меня еще мне не был интересен. Отец без устали выдумывал утешительные меры — начиная от гена бессмертия до наручного прибора, вроде часов, который будет ежесекундно диагностировать состояние организма человека и время от времени выдавать советы: «Выпить таблетку № 317». Или: «Внутривенная инъекция № 173». Страдания мои кончились, лишь когда, стараясь не подать виду, я спросил вечером Хашема: «А ты не боишься умереть?» «Нет», — последовал мгновенный ответ. И в ту же секунду страх мой схлынул.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу