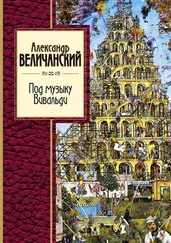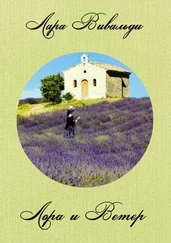— Ты сама это сочинила?
— Нет, конечно! Но почему ты здесь, саrа? Разве портрет уже закончен?
— Никто, кроме тебя, не знает, что я здесь, Аннина. Я пришла забрать вещи.
— Что ты такое говоришь?!
— Я услышала, как ты играешь… Так играть можешь только ты… или наш маэстро.
— Что значит «пришла забрать вещи»?
— Больше всего в моем замысле меня мучило, что я не смогу попрощаться. А теперь, выходит, могу.
— Джульетта! — У меня перехватило горло. — Ты что, сбегаешь?
Джульетта взяла меня за руки, но напрасно она пыталась встретиться со мной взглядом.
— Розальба говорит, что такое случается только два или три раза за всю жизнь. А у некоторых и вовсе один. Если упустишь эту единственную возможность…
— Ты не можешь убежать прямо сейчас!
— …если не будешь придавать значения его словам, когда он шепчет их тебе на ухо…
— Послушай меня!
— …если упорно пытаешься остаться скромницей, трусихой и недотрогой… и стараешься делать только то, что подобает, а не то, что велит тебе сердце…
— Джульетта, тебя ведь собираются принять в coro!
— Мне это теперь все равно, саrа. Я влюблена.
— Ты хотя бы подожди, пока примут! Маэстро написал концерт для нас троих — для тебя, меня и Бернардины. — Я показала ей ноты. — Вот он, этот концерт.
— Поцелуй меня, Аннина. Поцелуй и скажи: «Addio!»
— Не с кем теперь будет играть его, кроме как с этой циклопихой!
— Я тебе пришлю весточку, как только мы отыщем место, где сможем поселиться. Правда, он говорит, что мы, может быть, еще долго будем кочевать, как цыгане.
— Ты уйдешь, и Клаудии скоро семнадцать, а мне, видно, никак не уберечься от неприятностей, так что меня вообще не примут в coro.
— Я собираюсь и дальше играть на виолончели, а он будет искать повсюду заказы. По всей Европе сейчас большой спрос на венецианских живописцев.
— Прошу тебя, Джульетта, — не бросай меня здесь одну!
Она обняла меня, а я вцепилась в нее так, как держалась бы за свою мать, когда та оставляла меня в приюте, будь я не беспомощным новорожденным младенцем, а достаточно большой и сильной.
Я не могла говорить. Я не хотела отпускать ее.
Джульетта наконец расцепила мои руки и вытерла мне слезы уголком фартука.
— Если у меня родится дочь, — весело утешила она меня, — я назову ее Анной Марией.
Много лет назад Розальба прислала мне подарок — миниатюрную копию полотна, которое она написала по заказу короля Фредерика. Теперь Диана грезит об Актеоне на моем столе.
Венецианские знатоки утверждают, что это Кристина, дочка гондольера, изображающая многочисленных мадонн и святых на фресках Тьеполо. И лишь те из нас, кто помнит Джульетту, знают, что живописец выбрал дочь гондольера себе в натурщицы потому, что она походила на первую любовь Тьеполо — девушку, которую он боготворил, но не смог уберечь, когда был еще юношей. На красавицу Джульетту, которая умерла, рожая его ребенка прямо в поле, когда они вдвоем нищенствовали, скитаясь по Словении.
Мне так и не удалось дознаться, была ли это девочка. Сейчас у меня в приюте есть ученица, тоже Анна Мария — скрипачка с каштановыми кудряшками. Дочерью Джульетты она быть не может, та была бы младше — но не намного, всего на пару лет. Я ей часто рассказываю о Джульетте, о всех наших чудных проделках, и мы, бывает, смеемся вместе подолгу и от души. Пока живет эта Анна Мария, я могу быть спокойна, что имя моей подруги не забудется. Когда она называет меня «ziètta» — и делает это с радостью, — меня переполняет к ней любовь столь же сильная, как если бы это и вправду была дочка моей милой, навсегда ушедшей Джульетты, названная в честь меня. Это очень одаренный ребенок; я не сомневаюсь, что однажды она сама станет маэстрой.
Мы сидели на уроке вышивания, когда в дверь проскользнула маэстра Эвелина и, как положено, подождала, пока маэстра Роза оторвет глаза от Священного Писания, которое читала вслух. Пока они вдвоем о чем-то перешептывались, мы все делали вид, что прилежно работаем, хотя сами старались не упустить ни звука.
Странно подумать, что на пяльцах у меня в тот день была цветущая гранатовая ветка. Я вышивала обивку для стула — того самого, на котором сейчас сижу. Цветки с тех пор поблекли, ткань потерлась, но тем не менее этот стул навсегда останется для меня самым любимым. Я вспоминаю, как тогда за работой я воображала себе уже законченную вышивку на стуле в том доме, где мы поселимся с Францем Хорнеком. Там, в моих мечтах, пылал огонь в очаге, на коврике у ног копошились двое или трое всклокоченных ребятишек, а я читала им что-нибудь из Овидия или Гильермо Шекспира — но ни в коем случае не из Священного Писания.
Читать дальше