— Восхитительно. Уже горячее отрицание. Преступный сексуальный шантаж? Ну вроде того. Злоупотребление доверием газеты? Да, но тут ничего серьезного, скорее вопрос интонации. Преследования? Конечно, нет. Миста Пройс, вы еще здесь?
Но его уже нет. Большие часы на стене отдела новостей с гулким щелчком удобно укладывают минутную стрелку на цифру три, спустя пятнадцать минут после прихода Джона, и Джон выходит за дверь редакции с тремя предметами, которые с полным правом может считать своими. Прямо за дверью его останавливает Карен Уайтли, целует, шепчет: «Если я чем-то могу помочь…» — и спешит обратно в редакцию.
Несколько бесполезных попыток за несколько часов — никто не отвечает в ее странно опустевшем бунгало, и потому с быстротой сна и внезапной темнотой декорации меняются, и Джон стучит в дверь уже на том берегу реки, в Пеште. (Возвращался он другой дорогой — не рискнул опять увидеть кошку.) Он понимает — с мимолетной ясностью, которая легко забывается через миг, — что неверно классифицировал: Эмили это не всерьез, просто немного вышла из себя. Он стучит в дверь единственного серьезного человека, которого знает. С ней выйдет деловой разговор без эмоций, на ровном киле, холодный душ реальности на липкую нереальность дня.
Она открывает дверь и оставляет открытой. Ни слова не говоря, возвращается через комнату к холсту. Влезает на заляпанную краской деревянную табуретку, тянется за кистью, но тут же снова ее кладет. Вильнув бедрами, крутит табуретку и оборачивается к Джону.
— Так что было прошлой ночью? Трахнул свою крестьянку? А?
— А ты на что злишься?
— Трахнул. Невероятно.
— Перестань. Я пришел, потому что мне надо с тобой поговорить. Меня только что уволили, я как-то…
— Прошу тебя. Перестань. Хватит. Уйми эту мелкую тряску, которую я слышу, ладно? Объясни мне кое-что: как я превратилась в такую, к которой ты приходишь поплакаться? Один раз — ладно, но это было маленькое чуднóе исключение. Я самый неподходящий для такой работы человек в мире. Не бывает человека, которого это интересует меньше, чем меня, ясно? Именно поэтому у нас есть правила дома. — Она опять вертит сиденье бедрами и хватает кисть.
— Ты ревнуешь?
Она запускает кисть кувыркаться через всю комнату — кисть ударяется в грязное ростовое зеркало со слабым «тик-клик-клик», оставляя на стекле два синих мазка.
— Боже мой. Люди, вы меня убиваете. Вы меня, блядь, убиваете. Если я и ревную, то, поверь мне, здесь нечем гордиться, мудила. Как же вы мне все омерзительны.
— Пожалуйста, поговори со мной. Я себя чувствую так, будто…
— Хватит, Джон, что бы ты там ни чувствовал, это жизнь, и далеко не самая интересная ее часть. Так что избавь меня.
Джон валится навзничь на ее постель и бросает в потолок заскорузлый, заляпанный краской теннисный мяч, ловит прямо у лица.
— Раз уж ты спросила — нет, я не трахнул свою крестьянку, хотя почему это заботит тебя, я постичь бессилен. Я знаю ее дольше. Я всегда чувствовал к ней, не знаю, как будто…
— Иисусе всеебущий. — Мольберт с грохотом валится на пол и на спинке скользит навстречу своему быстро приближающемуся двойнику. Джон ловит мяч на отскоке и замирает, одной рукой стискивая желтый ворс, будто окаменевшая кошка с клубком. — Слушай, тупица, мы тут все в кого-нибудь влюблены, понял? Поголовно. Каждый распоследний идиот, которого я только знаю. Это слегка утомляет. Если мы все начнем говорить о наших маленьких тайных болях, они перестанут быть тайными, и мы все будем такие одинаковые, что, наверное, друг друга поубиваем. — Ники смотрит на Джона в упор и тяжело переводит дыхание. Ее тон меняется — теперь он чуть спокойнее, принужденно добрый: — Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, уходи, дай мне поработать.
Джон лежит в своей постели. Бунгало Эмили настойчиво провозглашает свою опустелость, а телефон — глухое одиночество. Джонов автоответчик воспроизводит не меньше пятнадцати щелчков положенной трубки и одно длинное послание с угрозами от «Ли Райли, хочу пообщаться с вами по поводу некоторых жалоб от многочисленных лиц женского пола из состава сотрудников посольства, у меня, сэр, фактически несколько жалоб, поданных многими нашими леди о том, что можно классифицировать только как…»
Джон отключает запись. Он лежит в постели, и в голове звучат слова полюбившейся ему песни, хотя голос венгерский и незнакомый. Джон окунается в сон и выскакивает, как ребенок, преодолевший холодную морскую воду. В балконную дверь входит Надя, она несет с собой лунный свет.
Читать дальше
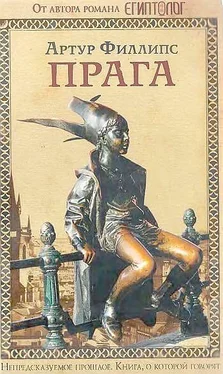



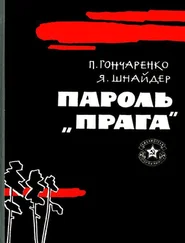
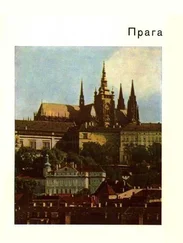




![Иван Сотников - Дунай в огне. Прага зовет [Роман]](/books/406593/ivan-sotnikov-dunaj-v-ogne-praga-zovet-roman-thumb.webp)
