Ники по-прежнему у окна — подносит к свету маленькую фотографию в рамке.
— Смотри, что она хранила, — говорит довольная Ники. — Не могу сказать, что одобряю эту рамку.
Она показывает Джону новогодний снимок за роялем под фресочным курящим Декстером Гордоном, единственную фотографию в квартире. Ни афиш на стенах, ни писем, ни обрезков, ни лоскутков, ни медалей — никаких свидетельств. Джон плюхается на кровать.
— Тут ничего нет. Ничего, — бормочет он, удивленный, что не раскопал ни одного доказательства в карликовом комоде — ничего, кроме кое-какой одежды, металлических форинтов, гребенки и платяной щетки. — Это не ее жизнь, — с грустью говорит Джон. Может быть, кто-то уже заходил сюда и забрал все личные вещи, пока он на улице дрожал на мартовском ветру и неверном солнце.
— Хорошая карточка, — говорит Ники, — я бы сказала. Она была так счастлива, когда я принесла ей пачку на выбор. Это мне очень польстило. Ну, и вообще приятно. Она так потешно к тебе относилась.
Угасающий солнечный свет лижет руки Ники, и Джон замечает, как они изящны и прекрасны. Несмотря на обгрызенные ногти и надорванные, волнистые кутикулы, несмотря на пятна краски; ее длинные пальцы изгибаются грациозно, и она подносит фотографию к свету с нежностью, которая подкупает, даже если это акт самолюбования. С такими пальцами она тоже могла бы стать пианисткой. Джон отцепляет тонкую нечистую штору от размочаленного колышка; она снова заслоняет окно. Джон представляет их двоих в этой маленькой квартире в вынужденном мраке военного затемнения, в зловеще непредсказуемом электрическом напряжении кризиса, мятежа, репрессий. Танки катятся по улице, по его улице, где он прожил с ней все эти мирные годы. Джон кладет фотографию на тумбочку, накрывая ею бумажный роман, берет Ники за руки.
— Но послушайте, мистер Говард. Я уверен, что мистер Мельхиор прилетел в такую даль не для того, чтобы услышать, как вы на этой стадии предлагаете значимые изменения в договоре.
— Пусть, Кайл.
Опять без интонаций, глаза где угодно, только не на лице собеседника.
— Как я уже говорил, это несущественные изменения, но я не могу с чистой совестью рекомендовать Чарлзу…
— А может, давай не будем париться по мелочам, Нев? Хьюберт приехал издалека, чтобы покончить с делом.
— О, мой Имре, благодарю, благодарю вас. Вы слышите меня? Вы можете показать, что слышите меня? У вас такие прекрасные глаза, вы так добры, что показали их мне! Спасибо. Можете пожать мне руку? Можете? О, очень хорошо! Только, конечно, не тратьте сил. Вы так добры, так добры. Я хочу позвать врача. О, ведь вы не знаете, где вы, бедняжка, вы так добры. Я вернусь через минуту. Не пугайтесь. Я здесь, я все время была здесь. Вы не понимаете меня, да? О, вы так растеряны, пожалуйста, просто верьте мне, вы поймете, вы скоро станете собой, Хорват-ур.
И если за ним придут, он хочет, чтобы его забрали именно так — из ее объятий, из этой узкой маленькой кровати, что едва выдерживает их двоих. Пусть они все повылезают из своих танков, пусть сидят, таращатся и аплодируют ей и Джону, которым на них плевать. Ее руки повсюду, ее рот повсюду, их одежда — опустелая, съёжившаяся бесполезной кучей; пусть русские забирают. Так и не покинув своей любимой маленькой квартирки, они совершили успешный побег, Джон и его жена с прекрасными руками пианистки, хриплым голосом, мягкой однодневной щетиной на бритой голове и приобретенным привкусом той кошмарной челюсти. Его прекрасная храбрая жена: она не согласится сейчас оказаться ни в каком другом месте, только здесь, в постели с ним; она предпочтет занятый врагом город, где Джон, любому безопасному раю, где Джона нет. А список, на составление которого они потратили долгие часы, пусть его, пусть русские сожгут его, или съедят, или отдадут озадаченным бессильным дешифровщикам. Нет таких границ, которые надо пересечь, которые они не могут пересечь здесь и сейчас, когда их тела сливаются — тела Джона и его жены, — когда они так тесно прижимаются друг к другу, что больше толком не различишь, где кончается один и начинается другой; происходит слияние, как и всякий раз, когда они вместе; они обмениваются частицами, и ни один в конце не остается таким же, каким был в начале. И пусть забирают ее рояль, ее мольберты и холсты, ее фотолабораторию, все ее секретные бумаги из посольства — к черту все это.
— Вы можете моргнуть? Можете? Доктор, он моргнул? Это он для нас моргнул, да? О, Имре — Хорват-ур, простите, что называю вас Имре. Вы спали так долго…
Читать дальше
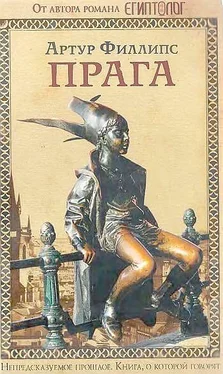



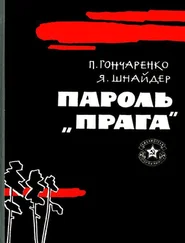
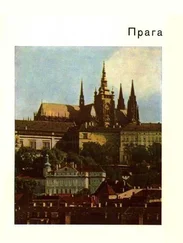




![Иван Сотников - Дунай в огне. Прага зовет [Роман]](/books/406593/ivan-sotnikov-dunaj-v-ogne-praga-zovet-roman-thumb.webp)
