Несколько месяцев спустя, весна 1991 идет на первый штурм зимних укреплений, и белый мартовский дождь с кислотным шипением прожигает серебристо-серые норки на полглубины корковатых, в бурых пятнах, сугробов старого снега, оставляя после себя лунный пейзаж с кратерами, а вечером нерешительная температура снова ныряет ниже критической цифры, которую так недавно перешагнула, и снег, который уже достигал было демобилизации в водную среду, возвращается обратно в грязный ухабистый лед с песком, в целую зиму вмерзших, застывших во времени запахов машин и собак. Фотография Нади, Джона и Декстера Гордона лежит на рабочем столе в нетопленой студии автора. Выдвижной резак медленно движется по контуру Джонова уха, носа и струи его дыма, которая теперь — неотъемлемая часть его округленных растрескавшихся губ, как комета немыслима, становится чем-то совсем иным, без ее сужающегося хвоста. Джоновой склоненной голове и струе дыма суждено увенчать композицию из его же голого торса (который моложе, хоть и незаметно) на галопирующих задних ногах козла (трофей полевых съемок в моравской деревне). Выдыхая в отчаянном беге этот холодный, серый, теперь не имеющий происхождения дым, Джон-сатир скоро зашагает с козлиной устойчивостью на раздвоенных копытах и голых шерстяных ляжках по шестиугольной брусчатке площади Вёрёшмарти. Через неделю, когда вклеивание, перефотографирование и проявка закончатся, он бросится в погоню — вокруг фасада металлической толпы у подножья Вёрёшмарти — за девушкой, голой и насмешливо хохочущей через плечо над мифическим дымодышащим преследователем. Длинных светлых развевающихся на ветру локонов капельку не достанет, чтобы скрыть лицо Ники и легкую неискренность смеха. Ее руки будут тянуться вперед, прочь от козла, пальцы напряжены в когтистой хватке в несомненной алчности к ляжкам другой женщины, только что скрывшейся за углом поэтова пьедестала, все три героя фотоколлажа в вечной замкнутой погоне вокруг густонаселенного монумента.
Но вернемся немного назад: той мартовской ночью (которая кажется холодней, чем январские глубины, тому, кто измучен нетерпеливым желанием весны), бритва успешно отрезает последний компонент, отделяя Джоновы руки от бедер Ники и Джонов вертикальный торс от его гримасничающей головы и невидимой области телесного низа. Ники расправляет скручивающиеся куски будущего произведения, чтобы оценить разницу в масштабе и освещении, когда из тени, завесившей кровать, доносится ядовитый голос:
— Мне кажется, это немного чересчур, что ты это проделываешь с его фотографиями, пока я здесь.
Ники не поднимает глаз; она не прерывает своей сосредоточенности так долго, что жалоба уже готова повториться, и наконец выдает ответ, смягченный задержкой:
— Не помню, чтобы я тебя спрашивала. Это уже абсолютное чудо, что я вообще могу работать, пока ты здесь. — Порыв расплакаться — скучный, причина стольких мигреней этой весной, — заявляет о себе, но не получает позволения дозреть. Браниться — тоже скучно, это причина стольких пропавших даром часов, когда творческие идеи выкипали, пока не оставался только перегоревший осадок. Легкое и веселое превратилось в дурное и липкое. То, что поначалу привлекало в Эмили, — невинность, полная прозрачность, согласная податливость — неведомым образом втравило Ники в этот пожилой брак, цикл свар и прощений, где работа оказалась под угрозой, а Ники начала привыкать к выговорам. — Ладно, слушай, извини, — наконец говорит Ники, но посмотреть на нее не может. — Пожалуйста, не надо этого. Сделай паузу. Я так устала ссориться. Лежи и все. Просто спи и дай мне на тебя смотреть. Мне нравится работать, когда ты то уплываешь в сон, то выплываешь. Дай поработать, а? Пожалуйста.
— Ты виделась с ним на этой неделе. Ты обещала, что больше не будешь, а я знаю, что виделась.
— Ты знаешь? — Хрупкое тонкое острие истощившейся нежности обламывается. Ники откладывает нож и подпирает голову ладонями. Яркая лампа, привинченная к столу, отбрасывает на стену темные и странные тени ее пальцев и головы. — Черт подери, у него умер друг. Пожалуйста. Только не сегодня, ладно?
— Не сегодня? Ну так может никогда? Это тебя устроит?
— О господи, вот до этой самой минуты я не могла понять, отчего моему папаше так нравилось колотить девочек, но теперь — да, никогда меня вполне устроит. Меня так тошнит от вас обоих. Вы совершенно одинаковые. Вы слабаки. Вам надо быть вместе. Давай, уйди, дай мне хоть один, нахуй, раз сделать мою работу! — Но последняя фраза впустую сотрясает воздух. Эмили уже ушла.
Читать дальше
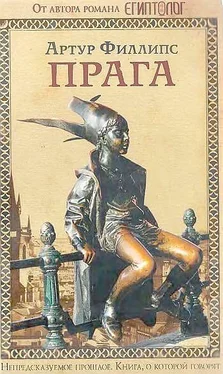



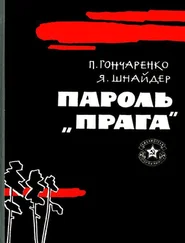
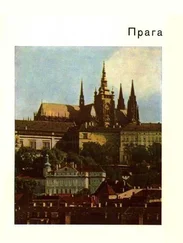




![Иван Сотников - Дунай в огне. Прага зовет [Роман]](/books/406593/ivan-sotnikov-dunaj-v-ogne-praga-zovet-roman-thumb.webp)
