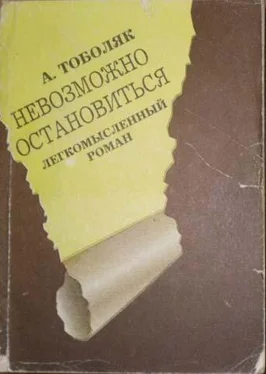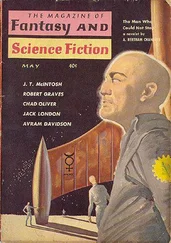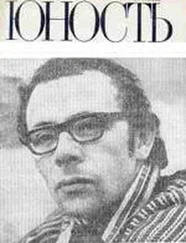— А вы придете? — останавливается та, держась рукой за косяк. Плотненькая такая, как ливерка, кругленькая.
— А куда же мы денемся, дурочка! В ванной, по-твоему, будем спать? Я его сейчас помою, мальчика моего, и мы тут как тут! А ты мне постель не прожги своими сигаретами, а то, знаешь, мой Голубчик какой жлоб — меня ему не жалко, а из-за разбитой рюмки удавится! Пошли, Юрочка, грязненький ты мой! — тянет она меня за руку.
Проходя мимо Оксаны, я таки не удерживаюсь, чтобы не шлепнуть ее по мягкому месту, и она мне подмигивает и улыбается. Компанейская попалась поэтесса Оксанка, безобидная!
Теперь уже Соня Голубчик раздевает меня, а я посильно ей помогаю. В такой ванной комнате — просторной, залитой светом, блещущей изразцами — жить, по-моему, можно комфортней, чем в туманной, ускользающей Малеевке.
— Я ведь, Соня, в Малеевку еду, — зачем-то ей сообщаю, стягивая джинсы.
— Ах, подожди! Боже мой, какую ерунду говоришь! Ну, где он — мой драгоценный? Здрасьте-пожалуйста! — восклицает она, снимая с меня трусы. — Это почему же он отлеживается?
Я оскорбляюсь.
— Это, Соня, тебе после твоего Голубчика кажется, что он слеживается. А он на взводе. Сейчас наберет сил.
— Юрочка, говори честно — нужен презерватив?
— В каком смысле?
— Ну, боже мой, ну, ясно в каком! Ты за собой не чувствуешь грехов? Я от тебя ничего не подхвачу?
— Ни в жизнь! — твердо говорю я.
— Ну, смотри, мой дорогой! Ванну или душ?
— Какую ванну! Я усну в ванне. Душ! И немедленно, боже мой!
— Я тебя помою, автор ты мой родной.
— Мой! Но чище! — наглею я, и от моего наглого голоса этот дурак несусветный подскакивает, как встрепанный, и озирает, балбес, стены и потолок.
Я закидываю ногу через борт ванны — и вот я уже, стало быть, в ванне, а сверху на меня льется горячая вода, а Соня-кинозвезда, схватив желтую сетку-мочалку и намылив ее, принимается меня мыть-тереть. Но странно как-то моет, только в паху и промежностях, пренебрегая туловищем как несущественной деталью. Приговаривает всякие слова: «миленький», «худенький», «золотой» (это мне), «у, какой сердитый!» (это ему) — и я не выдерживаю и двух минут: хватаю ее за руки и втягиваю к себе под горячую воду.
Тут все получается само собой. Соня опирается руками о борта ванной, поворачиваясь ко мне царственным своим задом, а я, увидев ее мраморные ягодицы и темную прорезь ловушки, устремляюсь в нее, как есть в мыле, с всхлипом и захлебом в горле.
Соня, странное дело, не темпераментная кинозвезда в минуты близости. (Почему-то я считаю, что все кинозвезды неистовы и неукротимы, ибо работают в жарком свете юпитеров, а все, например, фигуристы от постоянной близости льда холодны и равнодушны к ласкам.) Она ни в чем не отказывает, все делает на пятерку, но слишком правильно и обстоятельно, словно играет в постели по методу Станиславского…
АКТ 2.
Мы возвращаемся из ванной комнаты, покачиваясь, обнявшись, с песняком. То есть поет Соня — сильным, чистым контральто. Не о Синае поет, не о пустыне Авраамовой (это было бы понятно), а: «По ди-иким степям Забайкалья… где золото моют в гора-ах…» — причем, золотые огромные кольца в ее ушах раскачиваются и поблескивают.
Так, обнявшись, с песняком, входим мы в спальню, половину которой занимает царственное семейное ложе четы Голубчиков. И что же мы видим? Это непросто описать. Может быть, пропустить? Я боюсь, что друг-читатель, листая эти страницы, и без того содрогается от отвращения, негодует, а то и бегает время от времени в туалет с рвотными позывами… Но Теодоров, простите меня, воспитан на методе соцреализма, который, как я понимаю, должен копировать жизнь с неумолимой точностью, оком суровым и объективным, — я помню суровые обличения писателей в лакировке действительности! Поэтому честность отчаянная руководит мной, гордость за метод, вера в силу правды, а не медицинское желание облегчить ваши желудки — что вы! И вот реалистическая сценка, ничуть, кстати, не страшная, невинная даже: поэтесса моя лежит в свете люстры, разбросав ноги, откинув голову, закусив губу, с нежным страданием в лице и пальцами самозабвенно ласкает, ласкает, теребит, ласкает, теребит свое открытое лоно… о!
Песня о бродяге обрывается. Соня восклицает:
— Боже мой, посмотрите на эту сучку! Она не могла дождаться! Оксанка! Сучка! Ну-ка перестань! Слышишь?
— А я хочу-у! — поет та, обращая на нас свои закатившиеся глаза.
— Она хочет, ты слышишь, Юрочка? Она хочет, эта сучка! Мальчик мой, ты что остолбенел? Что нам с ней делать, с этой злоебучей? Мне ее жалко, честное слово! Помоги ей, Юрочка, черт с ней! Я не буду в обиде, боже мой!
Читать дальше