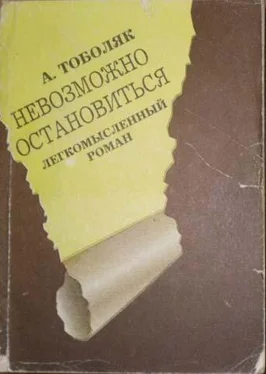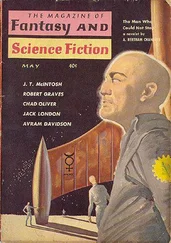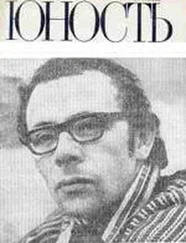Бытовое обеспечение, таким образом, превосходное. Теодоров законно горд. И он не понимает, почему его гостья Лиза, осматривая квартиру (а хозяин норовит показать ей даже туалет), хмурится и не удерживается от вздоха.
— Что, Лиза? Что-нибудь не так? — тревожно спрашиваю я.
— Живете вы по-спартански.
Мы все еще на «вы», но скоро должны, видимо, перейти на более дружеское обращение…
— Чаю, Лиза? — широко предлагаю я на кухне.
— А у вас есть заварка?
— Ах, черт! Нет. И сахару тоже.
— Тогда, пожалуй, не надо, — отвергает она несладкий кипяток. Капризная какая! — думаю я. И предлагаю новый соблазн:
— А вот моя рукопись. Хотите взглянуть? — Шевелю исписанными листками на кухонном столе.
Она бросает быстрый взгляд и зримо пугается:
— У вас такой почерк?
— Какой?
— Шизичный.
Гм… М-да… Довольно-таки сложная натура, думаю я. Но хозяйской уверенности не теряю. Есть еще в запасе книжки Теодорова на разных языках, театральные афиши с его именем — это сильнодействующее крайнее средство. Пойдемте, Лиза, в комнату. Садитесь на тахту, стул ненадежен. Неважно, что застелена, неважно. Курите, Лиза, вот пепельница. А вот типографские свидетельства многолетнего упрямства Теодорова, вбившего себе однажды по дурости в голову, что он сможет выразить себя через перо и бумагу.
Попадаю в точку: глаза моей гостьи разгораются.
— Вы столько написали? — искренне удивляется она, раскладывая книжки и журналы на коленях и тахте.
— Так получилось, — не отрицаю я своей плодовитости.
Издал я десять так, примерно, повестей да еще четыре пьесы. Это немало, если учесть, что писал их исключительно в часы просветленного сознания, отрешась от дружеских застолий. Все остальное время (тысячи дней) у писателей типа Теодорова уходит на процесс самоистребления, никак не связанный с ручкой или машинкой. Но Лизе это не обязательно знать. Она видит готовую продукцию, правильно? В достаточном количестве, правильно? И, следовательно, думает, что этот Теодоров при его шизичном почерке и порочных наклонностях способен все-таки к умственным полетам. Она сама пробует писать рассказы (пока только для себя), так почему бы не получить консультацию у профессионала?
Начинается все просто, охотно объясняет Теодоров. Однажды у младенца возникает желание высказаться. Дитя чувствует, что немота тяготит его. Хватит «уа, уа!». Пора сказать «мама, папа» и другие интересные слова. С Теодоровым это случилось лет в четырнадцать. Действие первого рассказа происходило в Париже. Герой носил аристократическую фамилию. И пошло-поехало. Остановиться стало невозможно. Много лет он пользовался в дневное время журналистским лексиконом, а по вечерам переходил на иную словесность, запрещающую такие обороты, как «трудовой подъем», «высокая производительность труда», «выполнение социалистических обязательств» и так далее. Кое-что стало получаться, но до тиражирования было еще далеко.
Ошибка, говорит Теодоров нравоучительно, превращать писание в серьезную, мучительную работу. Если обливаться потом, кряхтеть и надрываться, то можно родить только рекорд по поднятию тяжестей.
Ни в коем случае! — учит Теодоров, а Лиза серьезно слушает. Ежеминутное удовольствие, радость и любопытство должен испытывать автор, даже если он хоронит кого-то на своих страницах. Можно и всплакнуть, не возбраняется. Можно захохотать вдруг над какой-нибудь строкой.
Словом, назидает Теодоров, а Лиза серьезно слушает, происходит увлекательная игра по правилам самого сочинителя.
Желательно, подчеркивает Теодоров, кладя ладонь на руку Лизы, знать предмет, о котором пишешь. Если, к примеру, еще ни разу не любил, то влюбиться на бумаге чрезвычайно трудно. Важен личный опыт поцелуев, объятий, — особо подчеркивает Теодоров. Или другой пример. Не передашь качественно ощущение от ледяного спирта, льющегося в глотку, если сам пьешь исключительно теплый компот, да-а. Или безденежье. Надо испытать самому, что это такое, прежде чем лишать беднягу-героя средств к существованию.
Все это элементарно. Но есть странности, отклонения. «Вот у меня, — говорю я, нервно закуривая, — герои почему-то всегда моложе реального автора. Наверно, я не поспеваю за своим возрастом, как считаете, Лиза?» — И начинаю дрожать. И сглатываю комок в горле.
— Что с вами? — пробуждается гостья от задумчивости.
— А разволновался что-то. Это вы виноваты, Лиза. Слушайте, Лиза. А не прилечь ли нам? Лежа удобней беседовать. — Обнимаю ее за плечи.
Читать дальше