— Не горячись. Успокойся. Это все уладится. Тебе надо сделать вот что…
После того как она обрисовала мне план моих действий, я нашел, что выглядит он не так уж и плохо. И она скорее утешила меня, чем заинтриговала, сказав, что у меня будет трехчасовая передышка между девятью вечера и полуночью, когда я смогу без помех писать… Подняв голову, я посмотрел на нее. Она только что принесла мне еще одну чашку кофе и стояла рядом, беззаботно поглаживая меня по затылку костяшками пальцев левой руки.
— Тут Марк Эспри может объявиться, — сказал я. — Ох, как я надеюсь, что между вами не осталось ничего незавершенного!
— До завтра он здесь не появится, — сказала она. — А потом меня уже не будет.
Николь смотрела в окно, смотрела на мир. Кожа на тонкой ее шее была туго натянута, а глаза полнились возмущением или просто самоуверенностью. Было в ней тогда нечто такое, что тронуло меня больше всего, — как будто ее со всех сторон окружали крошечные сонмы умных врагов.
Только что зашел сюда снова. И снова должен уходить.
Пишу эти слова, чтобы сохранить твердость руки. А еще — потому что ничто не имеет никакого значения, если я не перенесу это на бумагу. Я не могу идти туда, только не вот в эту самую секунду. Но, разумеется, пойду. Я пойду. Есть в этом что-то от совершенно неоспоримой обязанности.
Зазвонил телефон, и в то же мгновение, как снял трубку, я ощутил дуновение чего-то ужасного, безгубо свистящего в линии. Как я мог истолковать это так неверно? Как я мог ничего не заметить, не увидеть? Вещи, которых я не замечаю, — они повсюду.
— Кэт, — сказал я, — что случилось? Ты где?
— Далеко. Малышку — пойди и забери малышку. Я, Сэм, дурная женщина.
— Ты… Да нет же, нет!
— Тогда в чем же дело? Скажи мне, в чем дело.
— Тебе просто не повезло.
Когда я положил трубку, из ванной вышла Николь. Я сказал:
— Ты надела это? Боже мой, только посмотрите-ка на нас. А знаешь ли ты, что во всем этом самое худшее? Во всем, что касается тебя — и всего повествования — и мира — и смерти? Вот что: это происходит на самом деле.
Первые три волны — свет, звук, удар — накатились почти одновременно. Сначала глаза, едва открывшись, тут же наткнулись на обжигающую колбу воспаленной лампы без абажура; следом обрушился взрыв то ли взмывшей вверх и разделившейся там на множество пылающих вишенок ракеты, то ли просто шумовой петарды; а затем имело место поспешное падение переполненной хрустальной пепельницы. Эта самая пепельница на протяжении многих часов покачивалась на краю полки над кроватью и вот наконец сорвалась — из-за взбесившейся физики повседневной жизни. Она падала с обычным ускорением: девять и восемь десятых метра в секунду за секунду, девять и восемь десятых метра на секунду в квадрате. И на полпути исполнила сальто-мортале. Так что Киту мало не показалось. Удар, смятые бычки и полная совковая лопата пепла — прямиком в пасть. Прямиком в физиономию. Было пятое ноября — день ужаса. Страходень.
Кит, отплевываясь, выбрался из-под одеяла и отряхнулся с головы до ног. Она умотала. Куда бы это? Он сфокусировал глаза, которые раскачивались и вращались в своих орбитах, на страхоциферблате. Ч-черт, нет! Выматерился, заставив затрепетать сухое облако страхопыли. Среди следов улегшейся бури, ярившейся в спальне, разыскал свою одежду. Бросившись в туалет, с размаху саданул полным ужаса пальцем ноги по латунной ножке кровати. Рыча и плача, облегчил возмущенный мочевой пузырь. Потом Китово отражение в зеркале принялось одеваться. Расщепленный страхоноготь все время цеплялся за нитки, застревал в смутно видневшихся тканях, сплошь синтетических, созданных какими-то страхохимиками. Китова тень на стене то распрямлялась, то ныряла вниз головой, исчезая из комнаты. В коридоре он остановился и грубо высвободил сегмент своей мошонки, угодивший, словно в мерзкий капкан, в захват страхомолнии со стершимися зубчиками.
Спотыкаясь, он спустился по лестнице и вышел на улицу. Направился к машине — к тяжелому «кавалеру». Строительная пыль и строительный оранжевый песок образовывали оранжевую дымку, достигавшую уровня глаз и застившую его перезрелое зрение — зрение, в которое, наподобие порошкового дефолианта «эйджент-орандж», и без того въелись неподвижные грязные пятна, сделав его похожим на ветровое стекло, заляпанное разбившимися насекомыми. В траншее, в бункере, полном труб и кабелей, какой-то рабочий так орудовал своим буравом, что от ужаса дрожали коленки, а звук при этом был куда громче того, что сопровождает стихийные бедствия. Типа как сам я, вчера вечером, с нею. Под ногами хрустел страхогравий тротуара. Хруст его проникал прямо в корни Китовых страхозубов.
Читать дальше
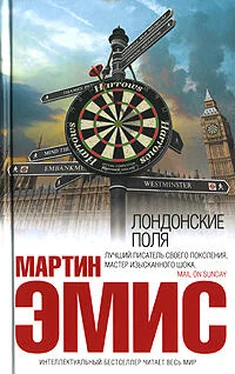










![Ингвар Мартин - Волшебные Поля [СИ]](/books/396383/ingvar-martin-volshebnye-polya-si-thumb.webp)
