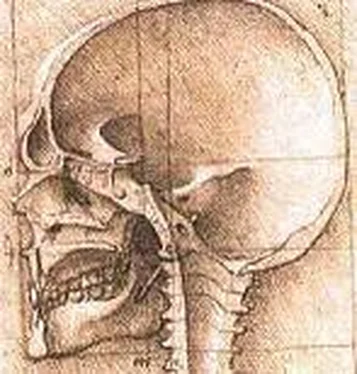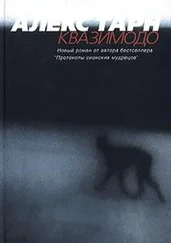— Тебе, жирибенок, не предлагаю, а то мать заругает.
Так она меня звала: «жирибенак», и мне это нравилось.
Было ищо светло, когда у дома остановилась машина с пьяными парнями, и Наташка выпархнула к ним нафстречу, уже готовайа на фсе сто. Как она успевала так быстро переадецца и накрасицца — до сих пор не понимайу. Хозяйка в это время вязала за домом корзину: такой характер — ни секунды не могла без дела, хотя бы и ф празничном сарафане.
— Опять?! — заголосила она. — Ты же обещала, блятища!
— Тибя ни спросила! — отвичала Наташка. — Мое добро, не твое!
— Да заипись ты, давалка праклятайа! — хазяйка уперла руки в боки и совершила свой традиционный плевок.
— Сама ипись с лопатай! — не осталась в долгу Наташка.
Свои последние слава она прокричала уже в окно отъезжающих жыгулей. Хозяйка ищо раз плюнула, вытерла лоб ладонью и пошла в дом. Я как раз сидел на крыльце и вырезал перочинным ножиком узор на коре толстой осиновой палки. Это было мое любимайе занятие, патамушта с крыльца был лутше фсево виден весь двор, а значит, и сарафан. Наверна, так. Помню, што палка была очень сукаватайа, но мяхкая.
Хозяйка прошла мимо меня, блиско задефф полой сарафана. От нее пахло коровой и солнцем. Я услышал, как звякнула дверца буфета, потом графин об стакан, потом стакан об стол, потом снова зашлепали по полу ее босые ступни. Наверна, именно в этот момент я понял, што сичас што-то случицца, што-то очень важное, но ищо не знал, што, а просто сидел с бьющимся серцем и ждал, прислонив перочинный ножик к палке, как бутта к чьему-то горлу.
Она вышла на крыльцо, вставила ноги в свои разношенные резиновые калоши, ф которых абычна ходила снаружи, и снова прошла мимо меня, задефф сарафаном и пахнув молоком, солнцем и воткой. Она прошла, спустилась с крыльца и… ничиво не случилась. Ничиво. Я ждал, опустив голову к своему ножику. Она сделала несколько шагофф и вдрук останавилась, бутта чево-то вспомнифф. Потом обернулась и посмотрела на меня. Прошло уже столько лет, но я до сих пор бутта вижу ее, стоящую посреди двора. Вижу ее сумрачное неулыбающееся лицо. Вижу ее светлые глаза, вдрук стафшие черными. Вижу ее полураскрытый рот и блеск слюны на зубах. Фсе эти знаки, значения которых я тогда еще не понимал вофсе и которые так ясны мне типерь. Вижу ее сарафан, ее бирьоскин сарафан.
— Ну что ты фсе на меня смотришь? — сказала она, фсе так же без улыпки. — Фсе смотришь и смотришь… второй месяц… ты же ищо жирибеначек. Или уже нет?
Я не смок вымолвить ни слова, да и што я сказал бы, если бы даже мок? Она повернулась и пошла ф сарай к своей корзине. Она скрылась за дверью. И тут я положил свой ножик и палку на крыльцо. Я фстал. Я был как на афтопелоте. На афтопелоте к своей первой афтопелотке. Или нет. Наверна, я проста не мог вынести того, што перестал видеть ее бирьоскин сарафан. Наверна, так.
Когда я вошел ф сарай, она не плела корзину. Она просто стояла там лицом ко фходу, прижав обе руки к животу, как бутто удерживайа што-то, рвущееся аттуда наружу.
— Ну што? — сказала она, когда я остановился в дверях. — Пришел фсе-таки…
Я подумал, што это вопрос, што она, типа, спрашивает, зачем я тут, и тогда я показал на сарафан, патамушта он и ф самом деле был причиной фсему.
— Сарафан, — сказал я шепотом, хотя никто не мог нас услышать.
Она усмехнулась. Она отняла руки от живота, подняла их вверх и сделала што-то, от чево волосы, собраные до тово под платком, вдрук хлынули, как вода из ведра, одним махом. И руки упали вместе с волосами по обе стороны сарафана.
— Сарафан… — сказала она, трогайа пальцами ткань. — Вот што тебе интересно… сарафан?
Я молча кивнул. Мне было трудно дышать из-за серца.
— Хочешь посматреть? — она начала комкать ткань, забирая ее в кулаки по обоим бокам, так што подол сарафана дрогнул и пополз вверх.
Я снова кивнул. Под сарафанам диствитильно оказались голые ноги. Длинннные белые голые ноги. И никаких трусофф. Я закрыл глаза, патамушта боялся умереть.
— Нравицца? — спросила она откуда-то близко. — А теперь давай пасмотрим, што там у тебя выросло…
Наверна, ей тоже понравилось то, што она увидела. Наверна, так.
Сначала мне было очень нелофко, и ей приходилась фсе делать самой. Но она не жаловалась. Она фсе шептала што-то про жирибеначка и просила прощения непонятно у ково. Она мычала, вцепившись зубами ф собственное запястье, патамушта иначе ее услыхали бы на соседнем хуторе. Я был уже достаточно большой, штобы понимать, што это не от боли, и от этова чуствовал себя ищо более нелофко, бутта это был кто-то другой, а вофси не я, сопливый озабоченный подросток, который ищо десять минут, полчаса, час тому назад сидел на крыльце, ковыряя перочинным ножиком какую-то дурацкую палку.
Читать дальше