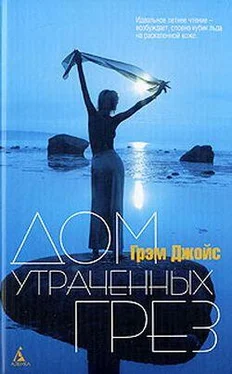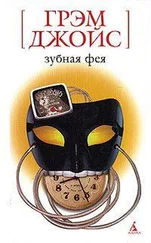– Возможно, нам нужно было приехать сюда, чтобы это выяснилось, как считаешь? Чтобы правда вышла на поверхность? А, Ким?
– Майк, я пришла сказать, что готова перестать играть в молчанку, снова начать разговаривать.
– Вот как! Теперь ты готова! Теперь ты готова разговаривать со мной. После того как отомстила мне, да? Знаешь, как тебя прозвали в деревне? Кали орекси. Bon appétit. Приятного аппетита! Потому что все официанты в деревне знают тебя. Но теперь в тебе появилось кое-что неаппетитное.
Ким была в растерянности.
– Майк, я и не думала мстить…
Но уже Майк не мог остановиться:
– А что же ты думала? Унизить меня? Это у тебя получилось, Ким. Получилось как нельзя лучше. Ты этого добилась. Теперь возвращайся к своему официанту. Желаю счастья!
Он повернулся к ней спиной и налил себе стакан узо.
После минутной паузы она встала и, ничего не видя перед собой, пошла по тропинке к воротам.
Верни ее! Быстрей верни ее! Ради бога, нельзя допустить, чтобы она ушла!
Когда она скрылась из виду, Майк ушел в дом и бросился на кровать. Грудь теснило так, что он едва мог дышать. Слезы всегда давались ему с муками, и когда они наконец прорывались, то лились горячим гейзером. Он содрогался в пароксизме ярости и отвращения к себе. Ненавидел Ким как никогда. Винил ее в том, что она не поняла его истинных чувств, его желания обнять ее, признаться ей во всем, простить и получить прощение. Проклинал сквозь слезы за неспособность увидеть, что он не хотел ранить ее, что каждый удар его ножа был направлен в собственное сердце. Кто, как не она, должен был понять его? Кто, как не она, обязан различать между тем, что он по-настоящему чувствует, и тем, что говорит его ярость? Разве не за тем она вышла за него? Чтобы знать его лучше, чем он знает себя?
Он ненавидел ее за то, что она заставляла любить ее, за то, что он потерял контроль над собой, что любовь делает его ужасающе слабым. А больше всего он не мог простить ей неспособность увидеть дальше того, что он только что совершил, и грех неумения заставить его прекратить блевать на собственную отвратительную гордость.
С того места на горе, где стоял его дом между деревней Камари и увенчанным крепостью городком Лиманаки, Манусос мог видеть если и не сам домишко, где жили Майк и Ким, то бухту; был ему виден и заброшенный монастырь на пальце мыса вдали. Так что каждый вечер, скинув башмаки и стянув носки, он босиком усаживался в старое кресло и устремлял взгляд на крохотную фигурку, глядящую в море.
«В любой момент, старина».
Он закурил сигарету и затянулся едким дымом. Он знал, когда приходит и уходит вечный страж, как знал, когда восходит и заходит солнце на небе. Больше того, существовала сверхъестественная связь между стражем в монастыре и закатом. Однажды Манусос даже проверил это но золотым часам, завещанным ему отцом. Каждый вечер ровно за три минуты до того, как солнце касалось горизонта, отшельник поворачивался и покидал свой сторожевой пост. Манусосу было точно известно, что у отшельника нет часов. Какой-то безошибочный внутренний хронометр с неизменной пунктуальностью подсказывал тому момент, когда наступала пора уходить, какой-то тонкий инстинкт, и так продолжалось каждый день много лет.
«Вот сейчас».
Человек на краю утеса повернулся и исчез. Можно было даже не смотреть на часы. Манусос знал, что ровно через сто восемьдесят секунд медный диск сольется с волнами. Три минуты прошли, и, когда солнце поцеловало воду, он выпустил струю дыма и встал, будто получил разрешение двигаться.
Плохой был день. Разговор с англичанином ничего не дал, и его достоинство было оскорблено. Он не мог снова туда вернуться. Потом одна из его овец сорвалась со скалы, пришлось ее прирезать и тащить домой. Плохой день.
Собака, привязанная у курятника, скулила и рвалась к хозяину. Он погладил собаку по голове. Потом пошел в дом за лирой.
Дом Манусоса состоял из единственной комнаты, большую часть которой занимала огромная латунная кровать. На стенах висело множество фотографий в рамках: отца и матери, деда и бабки, каких-то родственников, которых он уже не помнил. Был среди них и снимок брата, сделанный перед поступлением его в семинарию в Салониках, где тот хотел учиться на священника. Другие стены были заняты масляными лампами и пыльной вышивкой. Пастух не любил сидеть дома и старался как можно дольше оставаться на свежем воздухе. Домосед, считал он, – слаб, неполноценен. Холмы, и небо, и скалы – это легкие и прочие жизненно важные органы, тогда как дом – место только для ночевки, как церковь – место только для молитвы. Нет, домосед подобен музыкальному инструменту без струн, он лишен возможности раскрыть свою суть. Лира, завернутая в тряпку, лежала на кровати. Он взял ее и вышел наружу.
Читать дальше