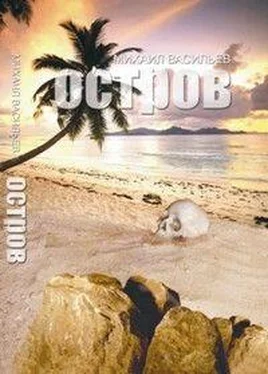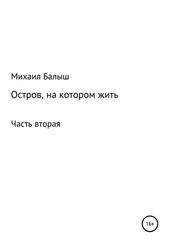— Что же теперь дикарем в пещере жить? Говорят, раньше люди жили.
Мамонт со стыдом вспомнил о своей попытке жить в бомбоубежище.
— Бог на этом острове работать не велел. Это мне один умный человек сказал, — В голове зашумело от выпитого. Мамонт слышал свой голос будто со стороны. Помню, все твердили в той жизни: построй дом, посади дерево…
— Я много их, деревьев и домов… — гудел где-то Аркадий.
— А я домов не строил. Гальюн построил, помню… Хороший, кирпичный… С одним барыгой, у него на даче.
— Нет, Мамонт, на земле бог твой всех работать заставляет. Это в церкви поп говорил, я слыхал. В раю, говорит, трудиться нельзя. А на земле рая нету. Нету рая здесь… Даже птицы работают. Одна Лениниана вон, — Аркадий указал вверх, — просто так живет, да еще с родственниками-дармоедами меня объедает. Я сажаю — они выкапывают. Орех сажаю, а они…
— Это их национальное блюдо, считай. Придется смириться.
Обезьяна, услыхав свое имя, вдруг спрыгнула с балки, легко ступая своими четырьмя руками по вертикальной стене из мешков, спустилась и уселась на столе перед Аркадием.
— И хиппи вот тоже… — неуверенно добавил Мамонт. — По радио говорили…
— Говно твои хиппи! Никудышный народ… — Аркадий почесал темя обезьяны корявым пальцем.
По обратной стороне оконного стекла бежал жучок — черная плоская изнанка, быстро семенящие ножки. — "Полуночный жук", — Лампа на подоконнике освещала фрагмент зарослей. До сих пор было странно видеть фикус, растущий за окном, а не наоборот: здесь, в кадке.
— Не так это окно открывается, — пояснил Аркадий. Мамонт отодвинул лампу, поднял необычную раму вверх. Далеко на берегу двигались красные точки факелов. Чуваки опять рыбачили, сейчас он будто увидел их сквозь темноту, бродящих по колено в воде, черную, и будто мятую, неподвижную поверхность моря.
"Странно, — вот земля и вот люди и ни одной могилы, — пришло неожиданное. — Будто бессмертные мы тут живем. Мир до сотворения смерти."
Издали донеслись чьи-то нетрезвые крики.
"Напились уже, теперь корма добывают… Память- это ощущение. По крайней мере, иногда. Обострение воспоминаний."
Он трясется на навозной телеге по дороге, усыпанной мерзлыми ягодами рябины. Он — это ничтожная деревенская пария: конюх с молочной фермы. Сверху медленно падают редкие мелкие снежинки, еле-еле опускаются под действием почти несуществующей тяжести, а от коровьего навоза в телеге еще идет тепло. Он едет мимо пирамид лиловой картошки по развороченному полю. Недавно, на собрании, председатель назвал все это картофельными плантациями. Слово уже несколько дней не выходило из головы. Плантации! В эти дни в воображении все являлись какие-то смутные фантастические тропики, надсмотрщики, черные полуголые рабы с корзинами на головах. — "Пеоны", — пришло в голову при виде нахохлившихся фигурок в серых телогрейках, разбросанных по полю. А дела были плохи. После последнего наступления соседки огорода не осталось совсем. Берег, на котором стоял дом, все больше подмывало, и дом этот грозил окончательно сползти в реку. — "Вот и в колхозе… — думал он. В колхозе почти не платили: доходов конюха не хватало не только на мало-мальски сытую, но даже на пьяную жизнь. — Все говорит о неизбежном конце деревенского периода… Деревенского периода в моем существовании", — так думал он, трясясь на навозной телеге.
— Скоро дом тебе поставим, — говорил Аркадий. — Настоящий, хороший. Рейсовый катер будет на тот берег ходить. Развернемся… Такое здесь будет, такое построим.
— Конечно. Отели с блядями, аэропорт. Тюрьму…
— Точно! Будешь галстук носить. Будто человек!
— Баран ты, Аркашка! Общество тебя давило, прессовало, а теперь ты ожил и повторения захотел, — Мамонт не мог справиться с раздражением, он не привык чувствовать себя правым: ему всегда успешно доказывали, что он глупее кого-то, стоящего рядом. — Зачем тебе все это… В наши годы понимаешь, как мало радости выделено человеку. Я теперь каждую такую радость так ценю, так ощущаю!.. Всем организмом. Бабочку увижу, запах почувствую… Хорошо живу: без злобы, без тревоги.
Лениниана Псоевна, поворачивая голову, сосредоточенно и серьезно следила за каждым глотком Мамонта.
"Так говорят только женщины и герои Мопассана", — подумал он.
— Ближе к старости, к расстрельной статье, конечно, сентиментальней становишься, — добавил вслух. — Особенно, когда выпьешь.
— Да что ты все про старость, про смерть твердишь? Я ни стареть, ни умирать пока не собираюсь, я теперь жизнь сначала начну.
Читать дальше