— Ты как здесь? — расспрашивает радостно Григорий. — Какими судьбами? Веришь, нет, вспоминал о тебе на днях! Вот бы, думаю, узнать, как там сейчас Вовка. Ты на службу?
— Нет, — с внутренним мазохистским наслаждением отвечаю я. — Милостыню прошу.
Григорий никак на эту реплику не реагирует. Словно так и надо.
— Ну молодец, здорово! — хвалит меня, словно я рассказал ему о том, что работаю профессором в Московском университете, имею жену-красавицу, просторную квартиру, дачу и двух дочерей на выданье. — А я вот здесь, священником, — эге, да он словно смущается этого.
Стоим и любуемся друг другом. Да уж, Гришка единственный на этом свете человек, которого мне не противно видеть. Которому я даже рад.
— Пойдём, пойдём в церковь! — хватает он меня за руку и ведёт за собой. — У меня сейчас служба, постоишь, подождёшь. А потом наговоримся. Только! — смотрит он мне в лицо внимательно и грозно. — Никуда не убегай, ладно! Я знаю, ты можешь.
Ладно, не убегу, думаю я.
Человек — величина непостоянная
Григорий явно провёл службу по сокращённой программе — на Пасху она должна быть длиннее и напыщеннее. (Хотя с какого хрена я, человек, ни уха ни рыла не ведающий в этих делах, берусь судить? Впрочем, я обо всём берусь судить.) Отдельные старушенции даже шептались по окончании — мол, чего это батюшка наспех так да без огонька?
Из-за меня, вестимо. После каждого произнесённого предложения вглядывался в народ и мою понурую морду среди лиц отыскивал. Я позади толпы перемещался, там имелось пространство — не всех ещё россиян клерикалы захомутали, некоторые неподкупные богохульники и по домам в такие дни предпочитают сидеть. А у Гришки даже голос напрягался, когда он терял меня из виду. И радостно усиливался, когда вновь отыскивал.
Сбежать действительно хотелось. Неумолимо, страстно, порывисто. Григорий хоть и бывший друг, но ипостась уже не та, реальность другая, вероятнее всего неизвестная. К тому же это перевоплощение… Чтобы превратиться из богоборца в истового служителя церкви, требовалось немало пережить и прочувствовать, и светлое чело Распутина (отца Афанасия, как я понял из старушечьих шепотков — надо же!) явственно о пережитом свидетельствовало. Он изменился: я без особых усилий читал в чертах его лица неизвестно откуда нашедшуюся любовь к человеку — быть может, и не любовь, но понимание и сострадание однозначно, смирение перед волнами жизненного океана, стоически поддерживаемый внутренним убеждением оптимизм, приятие простых и банальных кодов рядового человеческого существования. Говорят, это естественный путь любого индивида — к смирению и погружению в рутину. К тому времени я тоже был смирившимся (читай — отчаявшимся), погружённым в наигнуснейшую рутину и ни на что яркое в своей жизни уже не рассчитывал.
Именно в этом не преминул упрекнуть меня Григорий по окончании службы, когда вёз на своём «Мерседесе» домой.
— Ничего экстраординарного с тобой не произошло, — едва повернув голову, чтобы не отвлекаться от дороги, произнёс он. — Ты жив, вроде цел — так что настроиться можно на любую волну. Не раскисай.
Я уверен, прежний Гришка сказал бы мне иначе: не ссы, ещё не поздно подчинить себе реальность… Что-нибудь в этом духе. Такой упрёк из уст любого другого человека вызвал бы во мне вспышку злобы, но на Распутина я обижаться не мог. Просто не было сил.
Семьи, на моё счастье, дома не оказалось. Семья совершала круиз по какому-то европейскому государству. Возможно, что даже по некоторым. Григорий быстро собрал изысканный и сытный обед, разлил по рюмкам коньяк. Мы выпили и закусили — так хорошо я не ел уже долго.
Я был рад перехватить кусок и сто грамм на халяву, но восхищаться дружбаном не собирался. Да, я отчаявшийся и смирившийся, но жалить ещё не разучился.
— Значит, Церковь Рыгающего Иисуса загадочным образом превратилась в Православную Церковь, — не без злорадства, впрочем весьма сдержанного, произнёс я. — Бывает же такое!
Григорий подобный вопрос ожидал и наверняка имел готовый ответ. Тем не менее мой упрёк заставил его поморщиться.
— И там Иисус, и здесь, — отозвался он сухо, тут же улыбнувшись, словно говоря, что при своём нынешнем статусе грешно позволять себе те же самые эмоции, что одолевают меня, бестолкового. — Во всех своих проявлениях он спаситель. Моя подростковая вера не была отрицанием благой вести Спасителя, как могло показаться тебе или кому-то другому. Это была всё та же вера, только усиленная и искажённая юношеским максимализмом. Это был подростковый перфекционизм, когда видишь в том, что тебе предлагают в качестве идеала, изъяны, а потому строишь на этих изъянах альтернативный, порой вычурный, образ. Возьмём сатанистов. Думаешь, они искренне и целенаправленно служат абсолютному Злу? Нет, они тоже ищут Добро, просто разочарованы в существующем. Многие из них, должен тебе сказать, рано или поздно приходят к богу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
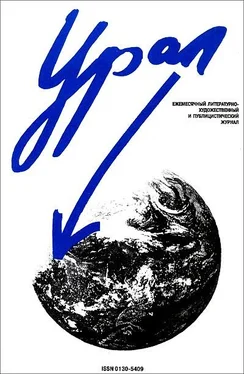
![Олег Лукошин - Бандитские повести [СИ]](/books/26644/oleg-lukoshin-banditskie-povesti-si-thumb.webp)
![Альбер Камю - Бунтующий человек. Недоразумение [сборник]](/books/31965/alber-kamyu-buntuyuchij-chelovek-nedorazumenie-sbor-thumb.webp)









