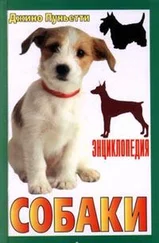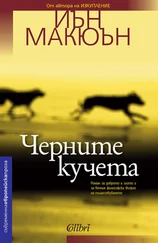— Должно быть, примерно неделю спустя Бернард пришел к нам домой и познакомился с моими родителями, и я почти уверена, что именно в тот раз он опрокинул заварочный чайник на наш «уилтон». [11] Тип шерстяных ковров, изначально производившихся в городе Уилтшире.
Если не считать этого эпизода, успех был полным, он являл собой образец подходящего по всем статьям молодого человека: привилегированная частная школа, Кембридж, милая застенчивая манера говорить со старшими. Вот так и началась наша двойная жизнь. Мы являли собой умилительную молодую пару, при виде которой таяли сердца и которая объявила о своей помолвке, с тем чтобы пожениться сразу после войны. И в то же время начатое мы продолжили. В Сенат-хаусе и в других правительственных зданиях существовали незанятые комнаты. И Бернард проявлял чудеса изобретательности, чтобы достать ключи. Летом были буковые леса под Амершемом. Это было как наркотик, безумие, тайная жизнь. Меры предосторожности мы уже кое-какие предпринимали, но, честно говоря, мне к тому времени на них уже было глубоко плевать.
Если нам случалось говорить о внешнем мире, говорили мы о коммунизме. Это была вторая наша одержимость. Мы приняли решение простить партии те глупости, которые она наворотила в начале войны, и вступить в нее, как только окончится война и мы уйдем с работы. Маркс, Ленин, Сталин, путь к светлому будущему — мы были согласны во всем. Образцовое единство душ и тел! Мы стали основателями маленькой частной утопии, и когда все народы мира последуют нашему примеру — всего лишь вопрос времени. Эти несколько месяцев сформировали нас. За всеми нашими горестями последующих времен всегда стояло желание вернуться к тем счастливым дням. Едва начав видеть мир по-разному, мы почувствовали, как время утекает у нас сквозь пальцы, и сделались друг с другом нетерпимы, нетерпеливы. Любое несогласие было как отступление от того, что было так возможно; и вскоре ничего, кроме отступлений, и не осталось. И в конце концов время утекло совсем, но воспоминания остались этаким немым укором, вот мы и не в состоянии оставить друг друга в покое.
Главное, что я поняла в то утро, после дольмена, так это что смелости, физической смелости, мне хватает и что я вполне могу сама за себя постоять. Весьма немаловажное открытие для женщины — по крайней мере, в те времена. Возможно, открытие это стало еще и роковым, несчастливым. Сейчас я уже не уверена, что мне следовало самой решать свои проблемы. Прочее рассказать куда труднее, в особенности скептику вроде тебя.
Я попытался было возразить, но она от меня попросту отмахнулась.
— В любом случае мы к этому еще вернемся. Что-то я слишком устала. Тебе скоро придется уйти. И к тому сну я тоже еще вернусь. Хочется быть уверенной, что ты все правильно понял.
Она помешкала, собираясь с силами для последнего на сегодняшний день монолога.
— Я понимаю, почему всем кажется, что я слишком раздула всю эту историю — юная девица, которая шла по дорожке, и ее напугали две псины. Но ведь когда-нибудь придет пора подводить итог прожитой жизни. И тогда ты либо придешь к выводу, что ты слишком стар и ленив для того, чтобы над этим думать, или же сделаешь то же самое, что и я: выделишь одно конкретное событие, отыщешь в чем-то вполне объяснимом и заурядном суть всего того, что в противном случае просто канет в Лету, — конфликт, смену точки отсчета, новое понимание происходящего. Я вовсе не пытаюсь утверждать, что эти твари только на вид казались обыкновенными собаками. Что бы там ни говорил Бернард, в действительности я не верю в то, что они были слугами дьявола, адскими псами или знамением Божьим, — или во что там еще я верю, с точки зрения всей этой публики. В следующий раз, как увидишься с ним, заставь его рассказать тебе о том, что наговорил нам про этих собак мэр Сан-Мориса. Он вспомнит. Мы тогда весь вечер просидели на веранде в «Отель де Тильёль». Я вовсе не пыталась мифологизировать этих животных. Я их использовала. Они дали мне ключик к свободе. Я кое-что открыла с их помощью.
Ее рука дернулась над простыней в мою сторону. А я так и не смог себя заставить потянуться навстречу и взять ее за руку. Помешал некий смутный журналистский импульс, довольно странное чувство отстраненности. Пока она говорила, а я продолжал выписывать в блокноте летящие арабески скорописи, я чувствовал себя невесомым, пустым и легким, словно подвешенным в полной неопределенности меж двух возможных точек зрения — обыденной и глубинной, не понимая, которую из них я в данный момент воспринимаю. Я дернулся и скорчился над блокнотом, стараясь не встретиться с ней взглядом.
Читать дальше