— Чего именно?
— Того, что вы вместо отдыха в Торремолиносе перед концертами предпочли провести время с нами в Толедо, Кордове, Севилье и Кадисе…
— Я бы солгал, — Асман обретает понемногу душевное равновесие и чуть улыбается, — сказав, что мне хотелось провести там время со всей вашей группой.
— Благодарю вас, — тихо говорит Доминика. — Я знала, что навсегда сохраню это в памяти.
Зал почты забит людьми. Вокруг немолчный гомон, телефонистки вызывают ожидающих абонентов, плачет ребенок, кто-то, распахнув из-за духоты дверь, ругается, требуя восстановить прерванную связь с Берлином, но они слышат лишь тишину, наступившую после слов Доминики, тишину, пришедшую как воскресенье после тяжких трудовых будней.
— Холера! — это возвращается Лукаш.
— Не забывай, мистер Асман понимает по-польски! — напоминает ему Доминика.
— Простите, — Лукаш переходит на английский, ругаться на котором не умеет. — Машина еще не готова.
— Ах, не готова? — Доминика не пытается даже скрыть радости. — А когда обещают?
— Неизвестно. Нет правого брызговика. Заказали в Турине, но пока не получили.
— Может, им следовало заказать в Варшаве, было бы быстрее, — замечает Доминика.
— Не язви.
Асман не понимает, в чем состоит язвительность, смотрит вопросительно, но никто ему ничего не объясняет. Подходит Сэм с зажатой в руке квитанцией — свидетельством отправленной телеграммы.
— Я это сделал! Я это сделал! — повторяет он. — Я не хотел, но ты меня вынудил!
Теперь Доминика и Лукаш смотрят непонимающе, но — как и Асман перед тем — не получают ответа.
Блюинг, достав из кармана платок, шумно сморкается. «Он ничуть не изменился, — думает Асман, — вечный насморк, разве что теперь пользуется носовым платком. Если бы бабушка не взяла его мальчиком в лавку, он ни за что не набрался бы смелости тогда, в Нью-Йорке, позвонить мне ночью. У давних знакомств есть свои хорошие и дурные стороны, к последним следует отнести именно такое вот чрезмерное панибратство, приемлемое далеко не всегда».
— Слушай, Сэм, — сухо бросает он, — обсудим наши дела позже.
— Естественно, мы должны их обсудить, — задиристо подхватывает Сэм.
Они выбираются из духоты переполненного зала почты и попадают в одуряющий зной улицы.
— Столько времени потеряли, давно бы лежали на пляже, — капризно тянет Доминика.
Лукаш смотрит на часы.
— Еще нет одиннадцати.
— Но я до сих пор ничего не ела.
— Перекусим по дороге.
— Тут неподалеку есть прелестный кафетерий, — поспешно предлагает Асман. — Мы тоже зайдем.
— Мы ведь недавно ели, — протестует Сэм.
— Позволь тебе заметить, это ты ел яичницу с ветчиной, а я выпил лишь стакан сока.
— Тебе никто не мешал тоже что-нибудь съесть. Не понимаю этих утренних голодовок, все равно потом слопаешь куда больше.
— Я не лопаю, а ем, и только когда захочу. — Давние знакомства имеют еще и ту особенность, что переносят в зрелые годы лексику школьной поры. И вот сейчас Иеремия Стшеменьский парирует с высоты своего нынешнего общественного положения выпад сына самого бедного залещицкого портного, который к тому же на три года моложе его. Действительно непростительную ошибку совершила бабушка, взяв младшего Блюменблау мальчиком в лавку.
— Когда же мы, в конце концов, спокойно поговорим?
— Мы все время спокойно говорим.
— Джереми, я послал телеграмму, но надеюсь, она окажется ненужной, ты все обдумаешь и откажешься от своего сумасбродства…
Доминика и Лукаш идут впереди и, к счастью, не слышат их препирательств, поскольку и сами, кажется, ссорятся, впрочем, Доминика — без особого ожесточения. Улочка, по которой они спускаются к морю, — само очарование — на ней полно магазинчиков, кафе и баров, глаза разбегаются, даже витрина мясника напоминает экспозицию натюрмортов и требует к себе далекого от потребительских вожделений высокого внимания.
«Может быть, они тут потому так мало едят мяса, — думает Доминика, — что оно слишком уж красивое, чтобы его пожирать? Им любуются, вместо того чтобы жарить и парить».
Магазины готовой одежды уже выставили все к приближающейся осени и зиме, которые здесь гораздо мягче, чем в других районах страны, а потому на прилавках в основном лишь легкие дамские сапожки из тонкой кожи и замшевые куртки со снежно-белыми воротниками. «У меня семьсот долларов, — думает Доминика. — Семь стодолларовых банкнотов, не разменянных и не растранжиренных на тряпки и чаевые в отелях, заранее предназначенные на покупку кафеля. К черту кафель, — вдруг решает она, — кто, в конце концов, по достоинству его оценит. А умываться можно и над тазом, сколько лет они так умывались на Мазурских озерах во время каникул, и все было о’кей. Но одно дело — каникулы, — хмурится она снова, — другое — вся долгая жизнь». Однако сейчас она не настроена размышлять о «всей долгой жизни». Когда она не в духе, все видится ей неопределенным, планы меркнут, а будущее кажется сплошной белой стеной без окон и без лестницы, по которой можно было бы вскарабкаться и заглянуть: а есть ли что-нибудь за ней… «Такие сапожки и замшевая куртка — вот достижимая и реальная радость! Боже милосердный! Когда ты молод и хочешь что-то иметь, нельзя утешиться мыслью, что получишь желаемое к старости. А эта куртка справа как раз на меня, — думает Доминика. — Коричневая юбка у меня есть и вполне подошла бы к бежевой замше…»
Читать дальше





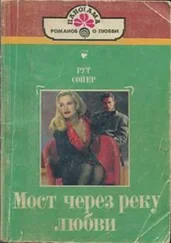

![Ольга Богатикова - На Калиновом мосту над рекой Смородинкой [СИ]](/books/400196/olga-bogatikova-na-kalinovom-mostu-nad-rekoj-smor-thumb.webp)




