— И она сразу тебе об этом доложила?
— Она дала мне свою визитку.
— Зачем?
— В Швеции у нее есть для меня работа.
— А разве ты ищешь работу?
— Не ищу, но, возможно, буду искать.
— Доминика!
— Бог мой! Ну что я такого сказала? Томаш, как и ты, архитектор, однако ездил с Евой в Швецию на уборку клубники, и за несколько недель отхватил там шестьсот долларов да еще всякого барахла на сотню…
— Доминика! — Лукаш взял ее за руку, что можно было, конечно, принять за жест вежливости и желания помочь ей подняться по лестнице, но, скорее всего, это было не так. — Побойся бога! Мы ведь у здания одной из красивейших почт мира. Перестань наконец говорить о деньгах и надень босоножки!
— Да здесь почти все босиком…
— И посмотри, какие оставляют за собой мокрые следы.
— Ну и что? Как они могут не оставлять следов, если только что полоскались в фонтане.
— Надень босоножки, прошу тебя. В этой толчее, того и гляди, отдавят ноги.
Они встали в очередь к окошечку «до востребования» в многоязычной толпе полуобнаженных девиц и бородатых юношей.
Доминика повела носом:
— Потеют и не моются.
Лукаш молчал. Запрокинув голову, он рассматривал прекрасный, удивительно величественный главный зал почты.
— Живут, наверное, не в гостиницах, а в кемпингах, — не оставляла своей мысли Доминика. — Но и в кемпинге ведь можно мыться. От нас никогда не пахло по́том, правда?
— Надеюсь, — буркнул Лукаш.
Ему очень хотелось получить письмо от отца. Из Лимы или из Варшавы, хотя второе было маловероятно. Из Варшавы даже срочные «авиа» шли более двух недель, а отец собирался вернуться домой только к открытию съезда архитекторов. Хотелось узнать, как сложились у него дела в Лиме, удалось ли ему там добиться согласия на кое-какие изменения, которые он хотел внести в утвержденный уже проект. Отец многого ждал от работы над воплощением своего проекта: наконец-то ему удастся вести строительство как он задумал, не опасаясь, что не получит нужных материалов для воплощения замысла, как это случалось в Польше. Ни в одном из видов искусств — Иероним Сыдонь считал архитектуру искусством — навязывание ограничений не сказывалось так болезненно. Музыканты — сочиняли, художники — рисовали как хотели, кинематографисты и писатели укрывались за метафоричностью, причем последние, на худой конец, могли писать «в стол», а возможно ли творить «в стол» архитекторам, если учесть, что сам проект — это еще не завершенное творение, а лишь его замысел? Лукаш надеялся, что отец обо всем этом напишет, зная, как сына это волнует.
Увы, письма от отца не оказалось. Было письмо только от Гелены, а когда Лукаш, не веря, стал настаивать, что непременно должно быть еще одно письмо, кареокая красавица в окошечке, быстрыми движениями тонких пальцев перебрав пачку писем из Польши в конвертах из серой бумаги, как бы извиняясь, улыбнулась:
— Есть только это.
— Влюбился в какую-нибудь перуанку, — сказала Доминика, — и не письмами занята у него теперь голова. Читай, что пишет Гелена.
Гелена была приятельницей Лукаша по учебе, дружила с ним много лет, а на заключительном этапе тоже включилась в техническую работу над проектом отца. Доминика уверяла, что Гелена разлюбила Лукаша, а объектом тайных ее вожделений стал теперь сам Геро, который, очень удачно разведясь со второй своей женой, был свободен, как птица. Лукаш не вникал в эти дела и Гелену искренне ценил. Та оскорбилась, когда он однажды откровенно сказал ей об этом, ибо, по ее мнению, для женщины это было самое нежелаемое из чувств, какие мужчина может к ней питать. Возможно, она была и права: ведь ему никогда бы, например, не пришло в голову сказать что-либо подобное Доминике…
— Читай! — торопила она.
Письмо оказалось адресованным лично ему, и он не знал, как ей об этом сказать. К счастью, она догадалась сама.
— Ну ладно, у вас, наверное, какие-то свои тайны, я уж как-нибудь переживу. Скажи только, когда письмо отправлено.
— Ровно две недели назад.
— Тогда и новости меня не интересуют. Это Гелену интересуют проблемы глобальные и вечные.
Они вышли из здания почты и остановились на ступенях под горячими лучами солнца. Доминика подставила им лицо, с плеч сдвинула бантики, а Лукаш развернул лист бумаги в клеточку, испещренный мелким почерком Гелены.
«Дорогой Лукаш, — писала она, — ты, вероятно, горько улыбаешься, глядя на этот листок, вырванный из тетради, и на редкость «изящный» конверт — просто стыд, что такое письмо идет за границу, но на полках писчебумажных магазинов пусто. Зато у нас теперь несколько новых многотиражных журналов. Лично я создала бы еще один: освещающий — для истории! — все польские парадоксы. А пока наша пресса (которой ты сейчас не читаешь, а потому несколько слов о ней) занимается выяснением, как можно было до такой степени опуститься во всех областях жизни. Если бы кто-то даже очень старался, вряд ли ему удалось бы добиться таких поразительных успехов. А может быть, именно кто-то старался… Как плохо, в сущности, мы информированы. Домыслы, безосновательные или основательные, обладают все-таки по крайней мере одним положительным качеством: оставляют возможность верить, что не только мы сами — из-за нашей нерадивости, глупости, недостатка доброй воли, реализации per fas et nefas [5] Правдами и неправдами (лат.) .
надежд на заграничные кредиты — довели до этого. Пишу «мы», хотя многие люди, наша, к примеру, среда, ни в чем не повинны. Но разве это может стать утешением? Я слышала недавно по радио стихотворение, начинавшееся словами: «А то, чем мы не были, стократной отзовется болью…» Да, Лукаш, мы не были теми, кто протестовал, и при этом ничуть не умаляет недовольства собой мысль, что, будь иначе, все равно ничто бы не изменилось.
Читать дальше





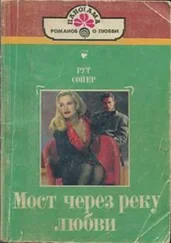

![Ольга Богатикова - На Калиновом мосту над рекой Смородинкой [СИ]](/books/400196/olga-bogatikova-na-kalinovom-mostu-nad-rekoj-smor-thumb.webp)




