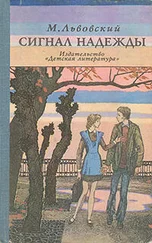За три дня до отъезда пришли вы с прогулки: "Папа, папа!.. — раздалось еще в дверях. — Смотри, кто у нас. Хороший? Я-аша, Яшенька… ну, чего ты боишься?" Галчонок, грачонок? Кто ты? "Сидит в парке на скамейке, — рассказывала Тамара, — и не улетает". — "Да, а кошки к нему уж подкрадываются. Мама его и взяла. Как ты его называешь, мама?" — "Слетыш, наверно. Слетел с гнезда, а крылышки еще слабые, не подняться". — "Мама, а что его мама подумает? Вот волноваться будет".
Июнь сушит, июнь жарит, но Толя, муж Лины, в шелковой тенниске, в шерстяных брюках элегантно прогуливается со своей "Спидолой" по огородам. Он приехал догуливать отпуск. Прихватил из дома отдыха книжку, паспорт там остался залогом. "Линок, съезди", сказал женушке. "Как? И ты поедешь? — возмутилась Тамара. — Он тут с жиру бесится, не знает, куда себя деть, а ты работаешь и сюда гоняешься". — "Тамарочка, ты не знаешь его, если ему хорошо — он хороший, а так он по трупам пойдет".
Иногда обедали мы в лесочке, у ручья, под сосенками. "Вот говорят, что я много ем, — благодушно посмеивается Анатолий, — но если бы мне жена так готовила, не один раз, на ночь, а регулярно, я бы всегда был сыт. А так приходится мясом". — "Что же вы хотите, чтобы она работала да еще хорошей домохозяйкой была?" — вступилась Тамара. "А как же другие? Вы, например?" — "Зато Лина умеет много такого, чего совсем не могу я".
Но какие могут быть споры после отличного обеда? Единственные — кому мыть посуду. Но тут уж ничто не может устоять предо мной, даже посуда. Кладу ее в таз, несу в три приема к ручью.
Тропинкой ли луговою, из окна ль автобусного иль поездного, поспешного, чем мелькнет тебе эта узкая ленточка? То ли синей, то ли серой тесемкой отразит на миг небо — и нет ее. А когда ляжешь грудью на мостки, баламутить не станешь ленивую воду, приглядишься и увидешь, как Фабр, жизнь там вечную, поначалу невидную, а потому и бессмысленную. Но лежи тихо, гляди. Дно обсыпано пепельными, ровно нарубленными соломинками, с детский пальчик. Показалось мне, двигаются. "Леша, пойдем Яше наловим шитиков". - изыскал однажды сосед наш Иван Данилович мероприятие четырехлетнему внуку, когда все заделья уже перепробовал. "А фачем Яфе фытики? а фачем Яфе фытики?" — "Кушать будет". — "А пчу куфать? а пчу куфать? апчукуфать?.." — удалялось к ручью. Вот соломинки эти и были шитики, стрекозьи личинки, которых мы проходили не то в пятом, не то в шестом классе — так прошли, что и не заметили.
Частенько, когда никого не было рядом, ложился я грудью на мостки и подолгу глядел. Вот живут, черти. Тишь да гладь, ползают себе по дну, что-то ищут, находят. Ни болезней, ни горя, ни тщеславия, ни гоньбы нашей суетной. И какой гармоничной показалась мне незнакомая подводная жизнь. Времена года — возрождение, угасание — безо всяких мыслей о том и другом. А ежели и случится там непредвиденное, кого это ранит? Лишь того, кому "на минуточку", как говорит Лина, оторвут голову. И уже потому был тот мир лучше нашего, что был он не наш.
Но садится мне на плечо Яшка, требует пищи, и достаю шитика, сдавливаю соломинку с одного конца. Из другого (хочет, не хочет), а появляется усатый, рубчатый червячок. Не успеет он раза два удивленно (а, может, отчаянно?) шевельнуть усиками, как роговой клюв чудовища выхватывает его из колыбели и толчками — хоп, хоп! — препровождает куда-то во мрак, откуда один только выход — кляксой. И что же думает он, бедный фытик? Что вселенная справедлива ко всем? И какие соображенья у Яши, у нас, у двуногих? Только те, что мы исключительны и требуем пропитания? Но ведь это — откуда смотреть. Из ручья смотрит шитик, с бережка смотрю я. Ну, а Тот, что повыше? Для которого я даже не шитик? Спросим Вольтера. Успокоившись в Турции вместе с Кунигундой, Панглосом и скептиком Мартэном, приходит Кандид к известному дервишу, "который считался лучшим философом Турции". Панглос сказал ему: "Учитель, мы пришли спросить вас, для чего создано такое странное животное, как человек". — "Во что ты вмешиваешься? — сказал дервиш. — Твое ли это дело?" — "Но, преподобный отец, — сказал Кандид, — ужасно много зла на земле". — "Так что же? — сказал дервиш. — Кому до этого какое дело? Когда султан посылает корабль в Египет, заботится ли он о том, хорошо или худо корабельным крысам?" — "Что же делать?" — спросил Панглос. "Молчать", — сказал дервиш.
Легко быть султаном, дервишем, даже Кандидом, но каково крысам?
Да, не так уж много было у меня в жизни занятий, приятнее, чем мытье посуды в ручье.
Сердцевину июневу напоследок отломил нам Господь, как арбузный ломоть — остатнюю нашу сладость, хоть и с косточками, которых не выплюнешь. Не успела очнуться от Динстовых рэнтгенов и прочих наших забот, как опять начала на глазах хорошеть, поправляться. Как-то встала на кровати, и прошло мягко по сердцу: не скелетик, а девочка, худенькая, но бывают и тоньше. Уводили мы с мамой друг от друга влажные взгляды — не сглазить бы. И письмо в тот счастливый день сочинила ты бабушке в Сестрорецк, в дом отдыха. И, наделав помарок, истово взялась переписывать: "Дорогая бабуля…" Замерла, глянула: "Мама, а после бабули надо восклицательный знак ставить?" Восклицанием для бабушки было само твое письмецо.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу