В другой речь идет о молодой женщине, которая отводила своего ребенка домой из школы. Над головой стояло жаркое солнце, был конец лета.
Дочка рассказывала, как прошел день, юная мать ее внимательно слушала.
А над ними простиралось чудесное небо, чуть затянутое легкой сентябрьской дымкой, с моря дул влажный ветерок. Быть может, до них доносились гудки пароходов, шум неблизких заводов. Поскольку, где бы ты ни был в этой стране, до тебя доносятся пароходные гудки и заводской шум.
Молодую мать звали Мария Долорес.
«Долорес» — «Матерь скорбящая» — здесь как нельзя кстати. Как точно подошло это исполненное боли имя, напоминающее о Деве, испытавшей материнские муки! При всем том женщина, о которой идет речь, родилась в стране, обычаи и язык которой требуют ласкательных, уменьшительных прозвищ. И в повседневной жизни ее окликали Йоэс. Йоэс — это звучит ласково и нежно.
Окликнули ли ее этим именем, чтобы она повернула голову? Произнесли ли они «Йоэс» глухим, но властным шепотом, чтобы она обернулась и увидела тех, кто пришел ее убить? И успела ли она повернуть голову и посмотреть в лицо убийце? Знала ли она их, опознала ли? Скрестился ли ее взгляд с их взглядами?
Во всяком случае, Йоэс по дороге из школы домой, посреди рассказа дочери, которую вела за руку, получила две пули в голову. Ребенок глядел на труп своей матери. Стоял сентябрь, конец лета. Солнце над головой, пароходные гудки, наверняка гул далекого завода. Ибо все происходило на земле моряков и металлургов. А чуть дальше от моря росли яблони, шелестела кукуруза, пасся скот.
Место, где жила Йоэс, называется Эускади. Через несколько дней группа заключенных боевиков ЭТА, бывшие товарищи Марии Долорес, выпустили прокламацию, оправдывавшую это убийство. «Самое ее присутствие на наших улицах, — говорилось там о Йоэс, — могло навести на мысль о том, что вооруженная борьба не является насущной необходимостью». Иными словами: сам факт, что она жива, мог заставить поверить, что убийство больше не является единственным исходом. Просто, как день. Однако Йоэс опередила их: в своем дневнике она, говоря о них, не находила иного слова, кроме «фашистов».
Некогда Йоэс играла одну из руководящих ролей в ЭТА. Принимала участие в вооруженной борьбе. Затем, после установления в Испании демократических основ правления, она решила, что для организации было бы неплохо изменить стратегию и вписаться в существующую политическую систему. Ведь в стране, обратившейся к мирной жизни, естественно переходить от военных акций к гражданским ради решения конфликтов политическими средствами. Не переубедив своих соратников, Йоэс рассталась с ЭТА. Уехала очень далеко, аж в Мексику. Между ней и ее бывшими друзьями-боевиками пролегли тысячи километров, целые пространства раздумий, одиночества, само время потекло по-другому. Она возвратилась к нормальной жизни, вышла замуж, родила ребенка. Спустя несколько лет, воспользовавшись законом о социальной реинтеграции бывших партизан, не замешанных в кровавых преступлениях, она возвратилась в Страну Басков, переехала в Эускади.
Никто не пробовал копаться в ее прошлом, у нее не требовали информации, не просили назвать имена подпольщиков, которые она еще могла вспомнить. И, конечно, помнила.
Она жила, вот и все. Жила в своей стране, в собственном семействе.
Но ее присутствие на улице, в обществе, в жизни, ее мысли, слова, жесты, смех, порывы воодушевления и отвращения, ярости, словом, само ее существование было нестерпимо для мелких вождей той организации, в которой она некогда состояла. И убили они ее прежде всего затем, чтобы доказать: они не принимают жизни с ее подлинными опасностями и случайностями, слабостями и величием. Что покуда есть на свете боевики, убийствам и террору конца не будет. И смысл их собственной жизни основан на праве предавать смерти других. На превращении смерти в единственный педагогический прием, в чудовищный ритуал, вечную пляску наемных убийц.
Мария Долорес Гонсалес Катарайн, Йоэс.
Мертвое тело на улице. Взгляд ребенка. Сентябрьское солнце над трупом Йоэс и над ребенком, еще не понимающим, что произошло.
Вот уж действительно две «детские» истории с далеко не детскими последствиями.
В то утро он вспоминал о них. О детях, замешанных в этих историях. И об их родителях.
В Бельвиле, выйдя из ателье Художника, он прежде всего почувствовал какую-то необыкновенную приподнятость. Почти физическое ощущение счастья, теплоту крови в жилах — радость оттого, что он здесь. В Париже. И он снова — Даниель Лорансон. Его новенькие с иголочки, фальшивые документы возвращали ему его подлинное имя и сущность. Он смеялся, новоиспеченный Даниель Лорансон, здесь, в Бельвиле, на улице, под лучами парижского солнца, без всякой причины.
Читать дальше




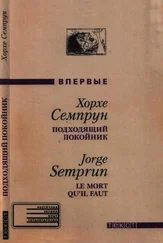



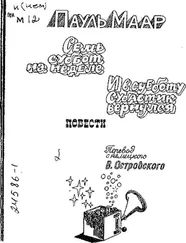
![Полина Люро - Ты вернулся [СИ]](/books/385014/polina-lyuro-ty-vernulsya-si-thumb.webp)

