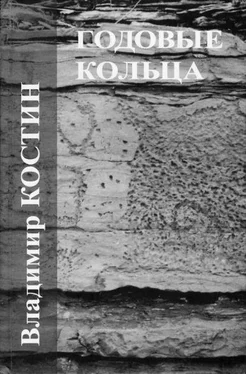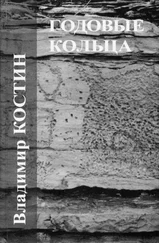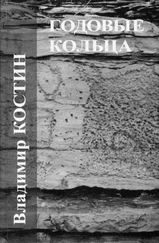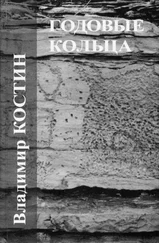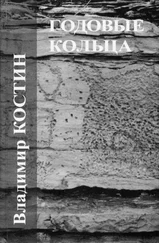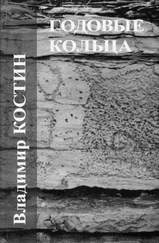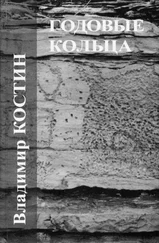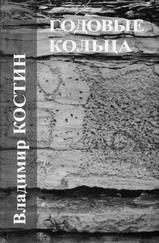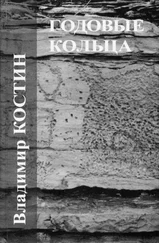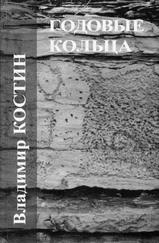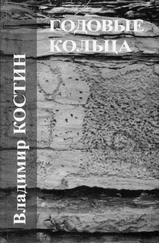— Извините, а жена его умерла в феврале 2002 года? — спросил я.
— Да. А — вы календарик приметили? Догадливый, — похвалили старики.
— Несут, — сказал квадратный молодой человек.
Музыканты дунули в свои приборы. Из подъезда вынесли две табуретки, следом появился гроб. Служилые ребята несли его на ладошках. За ними вышла дочь, которая совсем не походила на Екатерину Сергеевну. Она была старше, в очках. Старики подошли к ней, и я отчетливо расслышал, как кто-то назвал ее Верой. Подо мной покачнулась земля, я понял, что попал на «чужие» похороны.
Дочь не рыдала. Она сказала тихо, но настойчиво: — Давайте помолчим. И на кладбище помолчим. Ладно? Скажете на поминках.
Старики согласились и даже улыбнулись довольные. Видимо, это было очень важно, они ждали, что Вера примет правильное решение — и она его приняла.
Спокойно, сосредоточенно постояли, почему-то на душе было легко. Дочь обошла окружающих мокрыми глазами, благодарно кивая каждому. Кивнула и мне, и я ей кивнул. Она задержала на мне взгляд, затем наклонилась к старику Николаю и что-то спросила — конечно, «кто это?». В ответ он пожал плечами, и меня это почему-то задело. Она вновь посмотрела на меня и вновь кивнула. И вежливо и настороженно: чужим здесь не место. И я опять ответил, чувствуя какое-то свое неприличие. И в том ли только дело, что я ошибся адресом? Но это меня отрезвило. Я уже не мог ехать на кладбище, хотя мне никто того не запрещал. А ведь уже был готов проявить такое великодушие.
Но тут соседи с первого этажа с треском открыли окно и вывалились, муж и жена, на подоконник, качая скорбными головами в такт траурному маршу.
А все-таки, что она за человек? Очень хотелось, и верилось, что она человек достойный. Это имело отношение к моему желанию жить.
Викентьича занесли в катафалк, с ним уселась дочь и пять одуванчиков. Остальные потянулись к подоспевшему автобусу.
Площадка перед подъездом опустела. Во дворе никого не было. На асфальте и частично в луже лежали красные и белые гвоздики. Я постоял еще чуть-чуть, для приличия и от растерянности. Искать дом Екатерины Сергеевны было бесполезно и бестактно — я уже принадлежал Викентьичу. Где-то рядом, через пару дворов, наверняка уже отрыдал Шопен, и лежат на земле такие же гвоздики.
А каким был покойник, к которому я опоздал? И я с ужасом подумал, что хороший человек — большая редкость, что лимит скорее всего исчерпан и в один яркий весенний день в одном квартале не могли покинуть мир два праведника.
— Вот за такую калькуляцию и наказывают нас небеса.
Авось Екатерина Сергеевна простит меня. Ведь немудрено, что я обмишулился. Если нашлись четыре сносных плеча, она про меня забудет.
После этого, по пути домой, я сделал два дела: отправил посылку Ивану Прохоровичу и купил розы жене.
Посылка представляла собой собрание благородных трав со всех континентов нашей голубой планеты. Они будут завариваться чистейшей водой Восточной Сибири. К травам я приложил высмотренную в книжном магазине назидательную книгу «Жизнь только начинается». Она начиналась так: «Вам исполнилось семьдесят? Вы созрели для того, чтобы приносить радость себе и окружающим. Начнем с того, что посмотрим в зеркало. Что мы увидим?» Автором книги был указан Г. Г. Газгольдер, доктор психологии и отважный, видимо, естествоиспытатель. Уважаю естествоиспытателей.
Когда я подал жене цветы и старательно поцеловал ее, она сказала: — Ты что, брат, с цветами — провинился, что ли? Ну-ка посмотри-ка мне в глаза!
Я рассказал ей о своей ошибке, но настаивал на охватившем меня просветлении. Однако она выбрала иной мотив подношения цветов и назвала его откуплением. Провинился и откупился, сказала она, исходя из опыта нашей повседневной практики. И то хлеб, что у тебя совесть есть. Она за тобой не успевает, запаздывает, но покуда мерцает. Жаль, что ее в основном воскрешают табак и алкоголь, очень жаль.
Шутила жена, шутила.
— Я думал о радости жизни, о том, что рядом с хорошими людьми она без всяких теорий немедленно обретает смысл, — убеждал ее я.
— Если слишком увлекаться поисками смысла жизни, — сказала жена, — дети будут беспризорными.
И послала меня за насущным хлебом.
Сторонний голос вызывал теперь у меня неприятное беспокойство. Он подсказывал, что старик мог быть не столь иконописен, как мне привиделось; на похоронах всегда, под влиянием момента, под властью ритуала, говорят тепло, чтобы не молчать холодно, и опускаются подробности, которые бывают на самом деле решающими. Мало мы знаем великих гуманистов, высасывающих из близких последние соки? И редко ли права человека шумно защищают последние шкурники?
Читать дальше