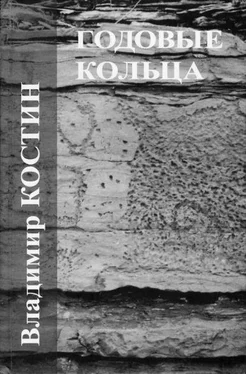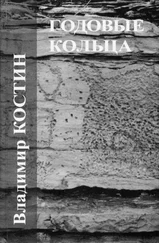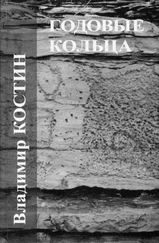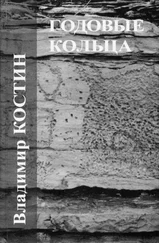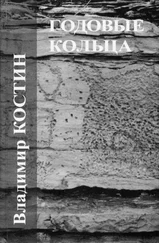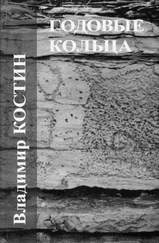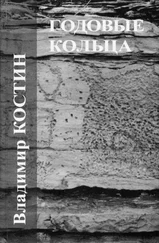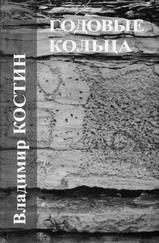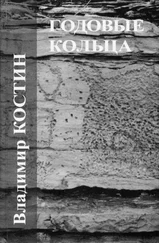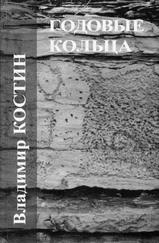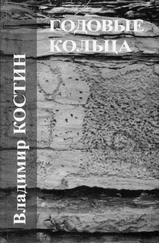Один говорил: — Шаг за шагом, и никак иначе.
Другой поддевал его: — Знаем мы это, проходили. Шаг вперед — два шага назад.
А третий решительно настаивал: — Нельзя, недопустимо ограничиваться одними экономическими требованиями. Это фактический оппортунизм, капитулянтство!
И, конечно, нашелся среди них непременный молчун, что старался не встретиться с чьим-либо взглядом и выжидал, чтобы примкнуть к победившей стороне. Но я бы не сказал, чтоб он был одет лучше других.
Я пришел плакать взаймы. «Отец и мати моя поидоша взаем плакати», — отвечала некогда мудрая дева Феврония несмышленому юноше, посланцу князя Петра. Это означало: родители пошли на похороны, чтобы потом пришли на похороны к ним.
У педагога моей жены умер отец, вовсе незнакомый мне человек, и она попросила через жену, чтобы я на всякий случай пришел и подставил плечо под гроб, потому что дееспособных людей может оказаться в недостатке.
— Третий этаж, налево, — ответил мне молодой человек, хотя я его ни о чем не спрашивал, а всего лишь задрал голову.
Я поднимался по узкой лестнице и думал об ее тесноте: опять придется переваливать гроб через перила, а дело это суетливое.
Дверь была открыта, квартира от порога полнилась народом. Обстановка ее вызывала глубокое человеческое сочувствие. Ничего не нажил покойник за долгую жизнь. Может быть, он ленился и пьянствовал, может быть, был честен до брезгливости — откуда мне знать? Меня тронул желтенький отрывной календарик в прихожей. «29 февраля 2002 года». «День Касьяна Остудного».
«Касьян на что ни взглянет — все вянет.
Зинет Касьян на крестьян…»
«Жители некоторых губерний старались 29 февраля проспать до обеда, чтобы таким образом переждать самое опасное время». И т. д.
Вовремя забросил календарик хозяин, нечего сказать. Но, возможно, в этот день умерла его старушка? Откуда мне знать?
Я протиснулся к дверям в зал. Окруженный стоящими и сидящими людьми, в гробу лежал тоненький старичок. Его седые длинные брови топорщились слишком причудливо, чтоб их не попытались бы усмирить. В бровях блестел какой-то крем. Попытались, но ничего не вышло.
Я подумал о том, что нести покойного будет нетрудно. Оглядел присутствующих и внезапно убедился, что моя помощь и не нужна. Крепких, в полном смысле молодых ребят было в избытке. Все они были в цивильном, но от них упорно веяло дисциплиной, тренировками, казенной службой. Они умели стоять на месте.
Значит, следует спуститься во двор и встать у подъезда, чтобы Екатерина Сергеевна увидела меня и убедилась, что муж ученицы готов ей помочь.
Вот Екатерина Сергеевна — я помнил, что она была не в отца крупновата, мосласта, у нее были развитые плечи пианистки. Опущенное к отцу лицо спряталось под траурным платком. Она молчит, и все молчат.
Трещали свечи, с фотографии в изголовье смотрел живой, веселый старик, только что рассказавший анекдот. Она — Екатерина Сергеевна, он — Сергей Васильич. Или Владимирович? Нет-нет, Васильич.
Я передал цветы и вышел на улицу. Явились музыканты. У них был неожиданно приличный вид. Они сидели на скамейке с озабоченными лицами, трогая свои зимние шарфы, как будто забыли шопеновский марш и никак не могли его подобающе вспомнить. Их глава вполголоса сообщил, что катафалк сломался, что-то с тормозами, поэтому они пришли пешком, благо что контора неподалеку. Но тормоза починят быстро, не надо беспокоиться.
— Все нынче через задницу, — рассердился самый горячий из стариков, — похоронить по-человечески и то не дают.
— Как будто при нас не ломались, — возразил сторонник умеренной борьбы с властью, — вспомни, как в 83-м провожали Глазкова Илью Степановича, как автобус улетел в кювет и тебя же придавило гробом. Ребра, небось, до сих пор на погоду ломит.
Радикал гневно показал ему кукиш и плюнул в лужу.
От нечего делать я стал расспрашивать о покойном. И вот что я услышал.
Родом он был из первоначальной сибирской деревни, происходил от некого мужика, что взял себе в жены чулымскую киргизку и отбивался еще десять лет от ее разгневанных сородичей. Не знаю, правдоподобно ли это — так говорили старики, его земляки. Туда в известное время перегибов сослали чемпиона Советского Союза по конькам Головенкова Ивана. Головенков, живя квартирантом, заметил, что в мальчишке удачно сочетаются азарт и настойчивость. Он обучил его своей науке, и мальчик, а потом юноша прославился на всю Сибирь как непревзойденный стайер. Они тренировались на обской протоке, где Сережка однажды угодил в полынью. Спасла его верная собака по кличке Верный. С этой собакой у него сложилась такая дружба, что много позже после ее смерти он хотел назвать сына Верный, Верный Сергеевич, но родилась дочь.
Читать дальше