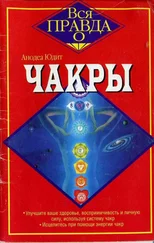Я — нет. Я не повторяла. Я могу сказать — это был не мой тип. Я не могу вспомнить, как это, то есть каким был секс со Штейном.
Мы сидели с ним в садиках и в домиках, принадлежавших людям, с которыми у нас не было ничего общего. Там жили рабочие, крестьяне, садоводы-любители, которые ненавидели нас и которых ненавидели мы. Мы старались избегать туземцев, даже мысль о них все портила. Несовместимо. Мы лишали их чувства «Кругом-все-свои», разрушали деревни, поля, а также небо, об этом они тоже догадывались по тому, как мы проходили мимо них походочкой «easy rider», [16] Специфическая походка вразвалочку персонажа фильма Дэниса Хоппера «Easy rider» («Беспечный ездок») 1969 г. о молодых людях, отправляющихся путешествовать по Америке.
бросали окурки в горшочки с их цветами, натыкались на людей, отвечали эхом. Но мы хотели там быть, несмотря ни на что. В домах мы сдирали со стен обои, всякий пластик и эластик, это делал Штейн; мы сидели в саду, пили вино, разглядывали деревья сквозь тучи комаров и говорили о Касторфе и Хайнере Мюллере и о последнем провале Ваверцинекса на сцене Народного театра. Натрудившись, Штейн подсаживался к нам. Мы принимали ЛСД, Штейн принимал ЛСД. Тодди качался в вечернем свете, когда до него дотрагивались, говорил что-то типа «голубизна», Штейн преувеличенно весело смеялся или молчал. У него так и не получилось смотреть на все нашим каверзным, неврастеническим, задроченным взглядом, хотя он прилагал к этому немалые усилия. Часто он смотрел на нас так, как будто мы были на сцене. Однажды я оказалась с ним наедине в саду, возможно, это было в доме Гейнце в Лунове, остальные наглотались колес и к закату уже были готовы. Штейн мыл стаканы, вытряхивал пепельницы, убирал бутылки и стулья. Наконец он с этим справился. Казалось, он забыл о других. «Хочешь вина?» — спросил он, я сказала: «Да», мы выпили, молча покурили, каждый раз, когда мы встречались с ним взглядом, он улыбался. Вот и все, что было.
И теперь я думала: «Вот и все, что было», сидя рядом со Штейном в такси, которое двигалось в плотном потоке машин по Франкфуртской аллее в сторону Пренцлау. День был холодный и туманный, пыль в воздухе, рядом с нами усталые водители, идиоты, пялящиеся из-за стекол, показывающие палец. Я курила сигарету и спрашивала себя, почему именно я должна сейчас сидеть рядом со Штейном, почему он именно мне позвонил — потому что я послужила для него началом? Потому что он не смог дозвониться Анне, или Кристиане, или Тодди? Потому что никто из них с ним бы не поехал? А почему я поехала? Я не находила ответа. Я выбросила окурок в окно, не обращая внимания на комментарий водителя соседней машины. В такси было очень холодно. «Что-то не в порядке с печкой, да? Штейн?» Штейн не ответил. Это был первый раз, когда мы снова сидели с ним вдвоем в его машине, я сказала: «Штейн, ну что за дом. Сколько ты за него заплатил?» Штейн рассеянно глянул на заднее стекло, поехал на красный свет, невозмутимо перешел на другую полосу, втянул в себя то, что осталось от сгоревшей до губ сигареты, «80 000», — сказал он. «Я заплатил за него 80 000 марок. Дом классный. Я его увидел и сразу понял — это он». У него на лице появились красные пятна, он хлопал ладонью по ноге, обгоняя автобус. Я сказала: «Где ты взял 80 000?», он глянул на меня и сказал: «Такие вопросы не задают». Я решила больше вообще ни о чем не спрашивать.
Мы покинули Берлин, Штейн съехал с шоссе на обычную дорогу, начался снег. Я чувствовала усталость, как всегда, когда я еду в машине. Я смотрела на дворники, на снежный вихрь, который концентрическими кругами шел нам навстречу, я думала о том, как мы ездили со Штейном два года назад, о странной эйфории, о безразличии, о враждебности. Штейн вел теперь спокойнее, поглядывал на меня. Я спросила: «Магнитофон больше не работает?» Он улыбнулся и сказал: «Работает. Я просто не знал… хочешь ли ты». Я закатила глаза: «Конечно, хочу», вставила в магнитофон кассету, на которую Штейн записал одну за другой двадцать арий Доницетти. Он засмеялся: «Ты все помнишь». Запела Каллас, она брала то выше, то ниже, Штейн то ускорялся, то замедлял ход, теперь была моя очередь смеяться, я стала прикасаться рукой к его щеке. Кожа была непривычно жесткой. Я подумала: «Что значит „привычно“», Штейн сказал: «Видишь», я видела, что он раскаивается. За Ангермюнде он свернул на проселочную дорогу и так резко затормозил перед одним домом, что я чуть не влетела головой в ветровое стекло. Это был дом с плоской крышей, построенный в шестидесятые годы. Я разочарованно спросила: «Вот этот?», Штейн заскользил по замерзшему бетону навстречу вышедшей из дома женщине в переднике. За передник цеплялся бледный, кривой ребенок. Я опустила стекло и услышала, как он радостно закричал: «Фрау Андерсон!», я всегда ненавидела его способ общения с такими людьми — я увидела, как он протянул ей руку и как она ее не взяла, а просто бросила ему огромную связку ключей. «Воды нет, — сказала она, — трубы лопнули от мороза. Но электричество будет. На следующей неделе». Ребенок начал ныть. «Ничего», — сказал Штейн и заскользил обратно к машине, остановился у моего открытого окна и стал делать элегантные, страстные круговые движения тазом. Он сказал: «Come on baby, let the good times roll». [17] Давай сюда, детка, хорошенько покувыркаемся.
Я сказала: «Штейн. Прекрати», я чувствовала, как я краснею, ребенок от удивления выпустил из рук передник.
Читать дальше