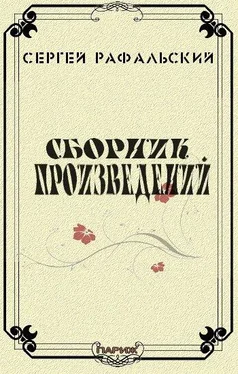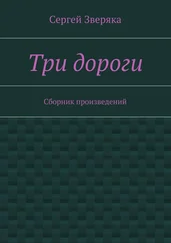И только один из студентов, тоже монах, происходивший из недавно присоединенных областей и еще не выработавший необходимых для жизни в социалистическом обществе рефлексов — не старался скрыть своих чувств и, когда о. Афанасий за чем-то обратился к нему, просто повернулся и — не сказав ни слова — ушел.
…Ранним утром за о. Афанасием приехали. Спускаясь с вещами по лестнице, он увидел в окне откровенного студента-монаха и был совершенно поражен ужасом и отчаянием в его широко открытых глазах. Только усевшись в грузовичек Учреждения, понял, в чем дело: „если не ты, так кто же это, Господи!» — казалось, кричали эти предельно изумленные глаза. И представив, какой ералаш в мозгах церковников он оставляет, — о. Афанасий невольно расхохотался…
— Развеселился не ко времени!. — сказал хмуро один конвоир другому.
— Оставь его, — ответил тот, не отводя глаз от оконца, за которым бежала, хромая и подпрыгивая, утренняя улица. — Хуже, когда плачут: на нервы действует…
Полуденный жар свалил. Отпускники разбрелись кто куда. Только наиболее солидные — с брюшком и положением — еще предавались самому популярному среди ответственых работников послеобеденному сну.
В смежной с двухсветным залом — некогда курительной — комнате, в окаменелом раздумьи шахматистов, склонились над столиком отец Афанасий (теперь Афанасий Павлович, школьный работник) и его партнер, заведующий опытной станцией старичок-биолог, за симпатичность и бородатость любовно прозванный отпускниками «дядей Власом».
В открытое окно, вместе с крепкой духовитостью старых, еще помещичьих лип, врывалось жадное жужжание июньских пчел. В тон ему в углу комнаты гудел под сурдинку радиоприемник: дядя Влас слушал с. — х. передачу, в которой на сегодня был обещан, неделю тому назад в этом же доме отдыха, записанный на пленку репортаж.
— Загнали вы меня в изолятор! — в трудном раздумьи над расположением остающихся у него фигур признался Афанасий Павлович.
— От тюрьмы да от сумы… — ласково напомнил дядя Влас в пол-уха, между тем уловляя глухо сочившееся из громкоговорителя сообщение «о летнем высотном режиме для штатных овцематок Кавказа». — Ив изоляторах люди живут!
— Ну-ну, — недовольно отмахнулся Афанасий Павлович и, решившись, наконец передвинул фигуру.
Биолог смотрел на него, сочувственно улыбаясь. Ему нравился и ход, лучший в почти безнадежном положении, и сам молодой партнер и частый собеседник. Неизвестно, откуда этот, явно сформировавшийся уже в пореволюционные годы, школьный работник успел прихватить интеллектуальное беспокойство, которого и днем с огнем не сыщешь в молодых поколениях. Те твердо и уверенно хотят быть инженерами, докторами, учеными и — точка. А этот, по-видимому, еще не прочь стать и человеком.
«Послушайте сообщение знатной свинарки», — заглушил его мысли торжественный женский голос из рупора: «о необходимости некоторой свободы для правильного развития молодняка».
— А вы все играете? — наперерез радиовещательному энтузиазму отозвался у окна скучный голос. Положив на подоконник руки и на них наклоненную на бок голову — в комнату глядел молодой человеком с красивым — удалым — чуь-чугь цыганским, сказали бы в старину, — лицом. Его карие глаза сонно томились, а сросшиеся брови черной чайкой падали с загорелого лба… Это был известный верхолаз, поставивший ряд героических трудовых рекордов, знатный человек страны…
— Мы все играем, — дружелюбно ответил ему дядя Влас, — а вы все гуляете?
— А я скучаю…
— Неужто на работе-то веселее?
— На работе думать не надо: висишь на основном канате метров на сто от земли, или там от реки, скажем: тянешь за собой проволоку и, пока тебя во все стороны мотает, только и смотришь, как бы чего не запуталось, либо сам в реку не нырнул… А дно — вот оно: прямо под тобой… С такой высоты гвоздем в ил войдешь, если о поверхность на сто двадцать составных частей не расшибешься… Раздумывать долго некогда.
— Ну, а здесь?
— А здесь… вышел, вот, в поле — смотрю: стоит дед, седой весь, бороду в кулак собрал, в небо смотрит и губами шевелит. Что, говорю, отец: Богу молишься? — Нет, отвечает, сынок! Бога-то по нонешним временам вроде как бы и нет. А ты вот лучше погляди: на небе над леском — словно быбы крынку с простоквашей разбила… Да и ветерок, как желторотый воробей, что из гнезда выпал — то вспорхнет, то в траву свалится. С утра он будто с вашей дачи дул, а сейчас от лугов пошел. Вот ты и примечай: еще не завтра, но послезавтра беспременно свинячий дождь денька на три, а то и больше… Ну, так что ж? — говорю… — А вот и то ж, отвечает, — что председатель, заместо уборки скошенного, все луга подряд гонит… Ему, известно, нормы перекрыть надо… Америку перегоним, а сена сгниют к чертовой матери. Раньше каждый давно бы свой лужок в копны сметал… — Что ж ты ему, отец, не скажешь? — спрашиваю. — Поди, сам скажи! — отвечает. — Он партейный, из города, ему все знать полагается! На свою коробку — баромет называется — смотрит, а он ему, может, только завтра к вечеру кукиш покажет… Значит коровенок опять на соломенный режим к зиме посадим, а молоко государству сдавать надо. Вот ты и смекай! — Нет, говорю, отец! Я отдыхать сюда приехал! Смекай сам… и ушел в лес… А там благодать: сосны гудят, смолой пахнет, земляникой пахнет, на папоротниках от солнца блеск… Иду по тропинке и отдыхаю… Вдруг, что-то по лицу… Оказывается — в паутину влез… Как только переполох отошел — выбежал откуда-то из-под листка паук, осмотрел убытки и пошел поправлять. Работает совсем, как наш брат, верхолаз: по одному канату ползет, другой за собой тянет. Пробежит — куда надо и натяжку делает, боковые скрепления ставит. Один конец не за что было зацепить, так он камешек на нем привесил — грамотный, сукин сын! Только муха вдруг в самую середину сетки — раз — и влипла. Набросился на нее паук, паутиной обмотал и айда кровь сосать. Хотел я муху освободить и вдруг вспомнил: а теленка-то за обедом кто съел?. Скучно все это, дядя Влас… Посмотришь на лес — как будто мир и покой, а сколько насекомого народа в нем каждый момент страдает и гибнет, и не только насекомого. И во всем мире так… Зачем устроено, что все друг друга жрут?
Читать дальше