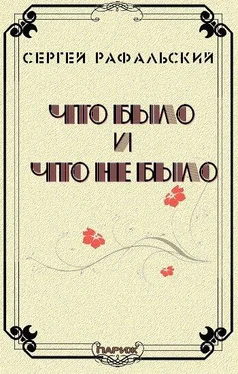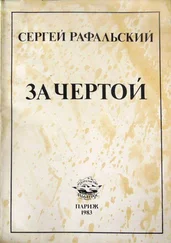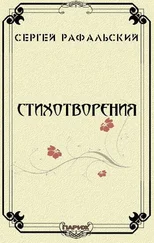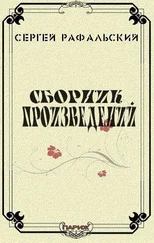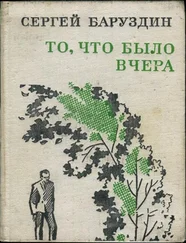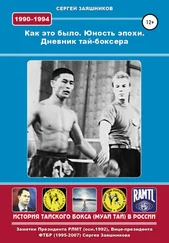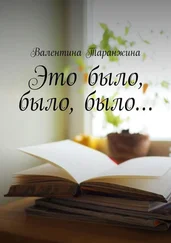Когда июльскую ночь озарили багровые зарева по-своему понятой свободы, из всех окрестных деревень телеги, как на ярмарку, ринулись в горящий город. Одинокие солдатки, вдовы, гулящие девки и даже отецкие дочки, и даже в обычное время добродетельные жены, за пару туфель, чулки, штуку сукна или другую какую-нибудь хозяйственную полезность, удовлетворяли вышедшие из берегов солдатские страсти где угодно: у заборов, под забором, в подворотнях и даже прямо на мостовой под ногами громил.
Все благоприобретенное сносилось на поджидавшие в условном месте возы… На другой день беспутный полк сдался экстренно вызванной гвардейской коннице, которая, кстати, тоже была не прочь пошалить, но, прибыв на место, убедилась, что овчинка выделки не стоит, и твердо стала на защиту революционного порядка.
А через некоторое время, почему-то задержавшийся на отстоявшей от города на 12 километров железнодорожной станции, отправляемый на позиции эшелон тоже взбунтовался и разграбил соседнее богатейшее имение князя Сангушко, а самого владельца убил…
Так, ленинское «грабь награбленное!» разбудило старинное «Сарынь на кичку!». Вождь настоящего общественного преображения, конечно, об этом подумал бы раньше, но конквистадору Мировой революции это было по пути. Он готов был отдать половину России, лишь бы вторая «вошла в социализм». В результате зарезали шестьдесят миллионов и вошли в «номенклатуру», которую упорно называют социализмом.
Очевидно, вожди именно ее имели в виду и раньше, только не решались это громко сказать… Благодатная весна перешла в грозовое лето и приближалась роковая осень…
Лукава человеческая память: в ней порой бесследно стирается то, что, казалось бы, гравировалось навсегда, и с поражающей точностью подымаются со дна черт знает каких далеких дней совершенные пустяки.
И вот — как будто это было вчера — видишь голубую утреннюю реку, с кое-где змеящимися над ней струйками рассветного пара, мельничное колесо, окруженное водяной пылью, в которой — в яр кие дни — вспыхивают осколки разбитой радуги; на отдаленном берегу за поворотом реки — остатки некогда бывшей рощи: растрепанные бурей, но сейчас почти причесанные расстоянием, не очень частые у нас, северно-русские березки… Чувствуешь запах более теплой, чем воздух, воды и напоминающий о Троице специально речной дух, дух аира, которым под праздник усыпают полы…
И даже следы на сыром и сером песке подстерегавшего на этом месте водившихся в омуте под мельничным колесом колючих ершиков знакомого рыболова, и даже не подлежащие передаче вечерние ощущения от похожей по фигуре на взволнованную гитару не слишком недотрожной его племянницы (с которой немножко пошутил), — а вот то, что происходило в нашем городке после октябрьской контрреволюции и до прихода немцев в 1918 году — решительно забыл…
Помню только, как узнали мы, что несчастного Временного Правительства больше нет…
Было уже довольно поздно (во всяком случае, далеко за десять), когда после одной из наших очередных постановок мы, «актеры» и организаторы, предоставив нашим «гостям» плясать и услаждаться буфетом, как это водилось, «до зари», веселой гурьбой спускались по привычной улице в единственно приличный в городе ресторан поужинать (с самогоном) и обменяться впечатлениями и планами на будущие спектакли.
На перекрестке нас остановил патруль сильно вооруженных солдат и потребовал документы. Убедившись, что все мы студенты, начальник (не знаю, как он именовался, знаков различия на нем не было) предложил нам вместо ужина немедленно разойтись по домам и, если встретятся новые патрули, сказать, что мы были уже проверены (но документы, конечно, предъявить). На вопрос — что же именно случилось? — начальник любезно сообщил, что Временного Правительства больше не существует и вся власть перешла к Советам…
Как жил после этой ночи наш городок, решительно не помню, но думаю, что корни такой забывчивости надо искать не в сенильном самоуничтожении архивов сознания, а в том, что на данном участке бывшей Империи Российской очередные власти проносились как облачные тени над сонным прудом: Временное Правительство, таинственный период «всей власти Советам», немцы и гетман Петлюра, первые большевики, снова Петлюра, вторые большевики, первые поляки, третьи большевики, вторые поляки и, наконец (уже после моего отъезда за границу), снова большевики, вторые (гитлеровские) немцы и окончательные большевики.
Читать дальше