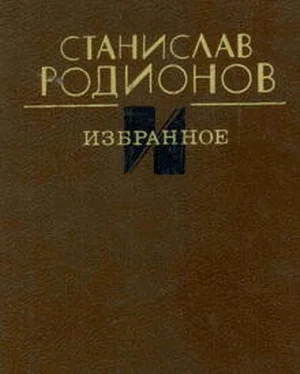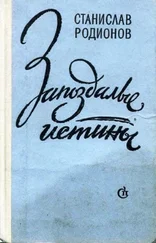— Мария, да я жив-здоров!
— Ты уйдешь в сторонку дальнюю, так и мне не жить, горюшице…
Тут я смекнул, что Мария пустилась в обрядовый плач — где бабкины слова вспомянет, а где и свое вставит.
— Генк! — рявкнул я так, что меня вторично по голове тюкнуло.
Он силой поднял ее с пола и усадил на стул:
— Мама, врач же сказал, что ничего опасного.
Мария всхлипы не оставила, но потишала. Платком комканым лицо закрывает — одни глаза пуганые смотрят на меня с откровенным ужасом. Будто не меня хотели порешить, а я кого. И по всем человеческим законам мне бы надо переживать от жениных слез, а я, старый дурак, улыбаюсь, как лопнувший арбуз. Потому что счастье меня обуяло. И то: я, еще живой, увидел, как моя жена Мария будет убиваться по мне, покойничку. Это ль не любовь подлинная?
— А я знала, что тебя по голове съездят, — сказала она сурово, как очнулась.
— Чего ж не предупредила?
— Да ты б разве послушал?
— Умереть я, Мария, не мог.
— Почему же?
— А помнишь, я тебе говорил о трех человеческих жизнях? Первая — до пенсии, вторая — после пенсии, а третья — в делах завершенных.
— Разве все твои байки упомнишь…
— Это не байка, а подлинно. Так как же я могу умереть, коли второй жизнью один год прожил? И зова мне не было, — дополнил я, косясь на мнительного соседа.
— Да ты и на зов чихнешь…
— Отец, кто тебя?
— Не суть, — отвязался я от вопроса.
Мария утерлась, спрятала платок и сказала мне веско, чтобы помочь в моей поправке:
— Выздоравливай, Коля, да я на развод подам…
— Я просил частушку, а меня опять в макушку.
— Отец, кто тебя?
— Неважно, это по работе.
— Да-да, Коля, пойду на развод, если не дашь мне слово ни во что не встревать.
— Конечно, дам, — свободно улыбнулся я.
И вдруг чувствую, что меня озаряет. Как бы увидел я на потолке светлый путь, невесть кем начертанный. Почему это невесть кем? Да мною же. Видится мне этот путь целиком, даже в виде арифметического порядка, — как человек должен идти и куда. Вернее, путь его второй сущности. А вот со словами пока туговато…
— Отец, кто тебя?
— Не твоя забота, на то есть милиция. Расскажи-ка лучше, как течет твоя семейная жизнь.
Тут Мария из-за спины подтащила сумку, величиной с хороший чемодан. Видать, Генкина. И пошла гастрономия, перемешанная с бакалеей: банки, пакеты, кульки и бутылки. Правда, с соками. Все принесли, кроме сырой крупы.
— С Вестой, отец, жить трудновато.
Что, характер?
— Да нет… С виду хрупкая, но энергии в ней навалом.
— Как понимать?
— Крутимся. Турпоходы, театры, книги покупаем, пластинки собираем, кино смотрим… Я забыл, когда и в аппаратуру заглядывал.
— В молодости и надо крутиться.
— Иногда охота тихонько у телевизора посидеть.
— Я тебе вот что скажу, Гена. А ты хоть запомни, хоть запиши. Человек не волен выбрать себе время жизни — это решают родители. Человек не волен выбрать время смерти — это решает природа. Но образ жизни выбирает сам человек.
Тут сестричка вошла и в ладошки хлопнула. Мол, сеанс окончен, и больному, то есть мне, нужен покой. Мол, на рентген пойдем. Мария, конечно, заревела по новой, стала меня целовать и мою тупую башку «головкой» называть. Пообещала завтра прийти. Да я думаю, что она еще и сегодня заглянет.
— У меня тоже была не жена, а крем-баба, — сказал сосед после ухода моих.
— Как понимать насчет крем-бабы?
— То есть не крем-баба, а ром-баба.
— Толстая, что ли?
— Не толстая, а широкая и мягкая. Только построили кооперативную квартиру — и ушла.
— Давно?
— Два года назад.
— Ты гляди-ка… Ведь пожилая.
— Да, в годах.
— И квартиру построили…
— Не только квартиру, а все было, включая садовый участок.
— И к кому ушла?
— Известно к кому… К богу.
— Померла, что ли?
— Про что и говорю.
Я крякнул, в голове стукнуло. Мне хотелось не разговоров, а подумать перед рентгеном о моем озарении. Видать, после удара мозги заработали четче, как карбюратор после чистки. Да вот сосед не только мнительный, но и одинокий — глядит на меня ожидаючи.
— Ты того… ешь все, что мне принесено, — сказал я, подталкивая кульки.
— Ешь не ешь — все одно помрем.
— Опять думаешь о смертушке?
— Как не думать…
— Ты небось и на бога уповаешь?
— Л почему бы не уповать?
Встречал я таких в госпиталях. Хорошие, неглупые мужики, да померли раньше времени. Не от ран своих, а от думок, от неуверенности. Иного принесут так исковерканного, что одни глаза и остались. А жить хочет. И бог, коли он есть, рассуждает так: «Хочешь жить — живи». Бывали и другие повороты — рана неглубокая, а болеет долго и тяжело. Поскольку второй сущностью первой не помогает.
Читать дальше