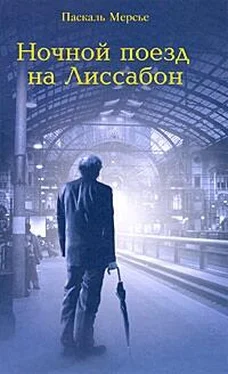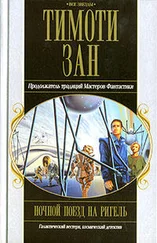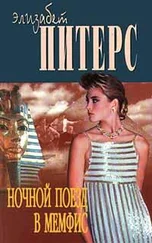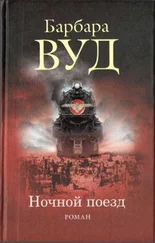«Он был предельно чуток к внешнему миру, но еще не к своему внутреннему». В этой фразе патера Бартоломеу, сказанной о Праду, звучало что-то само собой разумеющееся. Будто каждому взрослому человеку без всяческих затруднений известна грань между внутренней и внешней чуткостью. Português . Грегориус отчетливо увидел перед собой португалку на мосту, как она подтянулась на руках, чуть не выскользнув из собственных туфель. «Эстефания Эспиноза. Само имя как стихотворение, правда? — сказал в ту ночь Праду. — За границу. Через горы. Не спрашивайте, куда». И вдруг, сам не зная откуда, Грегориус точно знал, что шевельнулось в нем, не сразу распознанное: он не хотел читать речь Праду в гостиничном номере; это надо сделать в заброшенном лицее, там, где она и была произнесена. Там, где по сию пору в выдвижном ящике стола лежит Библия на древнееврейском, завернутая в его пуловер. Там, где обитают крысы и летучие мыши.
Почему это, наверное, абсурдное, но в принципе безобидное желание представлялось ему исключительно важным? Откуда взялось ощущение, что решение свернуть с пути и вернуться к трамвайной остановке повлечет за собой далеко идущие последствия? Прямо перед самым закрытием он успел прошмыгнуть в скобяную лавку и купил самый мощный фонарик из всех, что были в продаже. И вот он снова сидит в старом вагончике и трясется к станции метро, которое вынесет его к лицею.
Покинутое здание лицея выглядело в кромешной тьме парка таким заброшенным, как еще никакое другое в его жизни. Отправляясь сюда, он держал в памяти солнечный луч, блуждавший в полдень по кабинету сеньора Кортиша. То, что теперь предстало его взору, было даже не зданием, а затонувшим кораблем, тихо лежащим на дне морском, потерянным для людей и нетронутым временем.
Грегориус сел на камень. Ему вспомнился один ученик из бернской гимназии, когда-то давным-давно ночью пробравшийся в кабинет ректора. Он до утра названивал по всему миру, чтобы «отомстить». Да, Ганс Гмюр звали его, и имя свое он носил как гарроту. Грегориус оплатил все звонки из своего кармана, с трудом уговорив ректора не поднимать шума. Потом он встретил Гмюра в городе и попытался выяснить, за что же тот хотел отомстить. Но ничего не вышло. «Отомстить и все», — упрямо талдычил парень. Он вяло жевал яблочный пирог, а самого его грызла затаенная обида, которая, наверное, родилась вместе с ним. Когда они разошлись, Грегориус долго смотрел ему вслед.
«А знаешь, я почти восхищаюсь им, — сказал он как-то Флоранс. — А может, и завидую. Представь себе: сидит он за ректорским столом и звонит на разные континенты, только в посольства, где говорят по-немецки. В Сидней, Сантьяго, даже в Пекин. И не потому, что ему надо что-то сказать, ровно ничего. Просто набрать номер, слушать шорохи на линии и ощущать, как истекают дьявольски дорогие секунды. Ну разве не грандиозная задумка?!
«И это говоришь ты? Ты, который рад бы оплатить свои счета еще до того, как они выписаны? Лишь бы ни у кого не оказаться в долгу?»
«Именно, — сказал он. — Именно я».
Флоранс только молча поправила свои чересчур модные очки. Она всегда так делала, если не понимала его.
Грегориус включил фонарик и за его лучом последовал к входным дверям. В темноте скрип ржавых петель раздавался еще громче, чем днем, и гораздо сильнее создавал атмосферу запретности. Шум перепончатых крыльев заполнил все здание. Грегориус подождал, пока он стихнет, и направился в сторону двустворчатой двери, ведущей к лестнице на второй этаж. Лучом света он как метлой водил по каменному полу впереди, чтобы ненароком не наступить на дохлую крысу. В выстуженных помещениях пронизывал ледяной холод, и он первым делом зашел в кабинет ректора, чтобы забрать свой пуловер.
Он подержал в руках древнееврейскую Библию. Она принадлежала патеру Бартоломеу. В тысяча девятьсот семидесятом, когда власти закрыли лицей, заклеймив ее «кузницей красных кадров», в опустевшем кабинете сеньора Кортиша собрались, кроме патера Бартоломеу, и другие его последователи. Они стояли, исполненные гнева и бессилия.
«Мы должны что-то сделать, что-то символическое», — возмутился патер. И порывисто выхватив Библию, сунул ее в ящик ректорского стола.
Ректор иронично глянул на него и усмехнулся:
«Превосходно. Господь им еще покажет!»
Грегориус прошел в актовый зал и уселся на скамью для руководства, откуда сеньор Кортиш с застывшей миной слушал речь Праду. Он вытащил папку патера Бартоломеу из пакета, который ему дали в книжном магазине, и, развязав тесемки, сложил перед собой листы, которые Амадеу собирал на этой самой кафедре после свой скандальной речи. Те же каллиграфически начертанные буквы, которые он уже видел в письме из Оксфорда, написанного черными чернилами. Грегориус направил узкий луч на поблекшие листы и начал читать.
Читать дальше