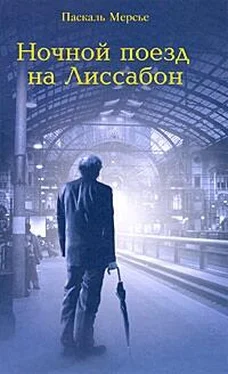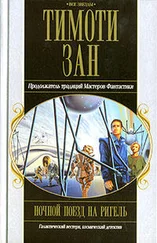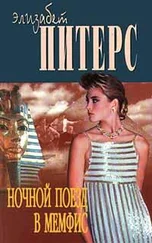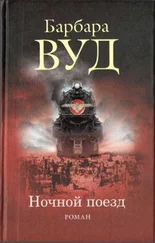Однажды вечером, это было осенью семьдесят первого, в школу пришел Амадеу. Он смотрел на нее как зачарованный. Когда собрание подошло к концу и все начали расходиться, он подошел к ней и о чем-то заговорил. Хорхе ждал у двери. Она избегала смотреть на Амадеу, стояла, потупив взор. Я понял: что-то грядет.
Ничего не произошло. Хорхе и Эстефания по-прежнему оставались вместе. Амадеу больше не приходил на встречи. Позже я узнал, что она ходила к нему в практику. Она сходила по нему с ума. Амадеу выпроводил ее. Он был лоялен к О'Келли. Лоялен до самоотречения. Целую зиму продолжалось это напряженное спокойствие. Иногда Хорхе и Амадеу можно было видеть вместе. Что-то между ними изменилось, что-то неуловимое. Они уже и шли-то не в ногу. Будто требовалось прилагать усилие, чтобы сохранять общность. И с девочкой у Хорхе что-то нарушилось. Он держал себя в руках, но то и дело в его глазах загорался недобрый огонек, он поправлял ее, выказывал недоверие к ее памяти, выскакивал, хлопнув дверью. Наверное, так и так все бы плохо кончилось, но все что угодно показалось бы безобидным по сравнению с тем, что произошло.
В конце февраля в школу нагрянул один из подручных Мендиша. Он бесшумно открыл дверь и мгновенно оказался среди нас. Мы знали его: умный, опасный агент. Эстефания была неподражаема. Она заметила его чуть ли не сразу, тут же прервала фразу — мы обсуждали новую акцию — взяла мел, указку и «продолжила» объяснять букву «c», как сейчас помню, это была «c». Бадахос — так звали агента, как испанский город, — уселся. До сих пор у меня стоит в ушах скрип старой парты. Эстефания скинула жакет, хоть в помещении было прохладно — она всегда обольстительно одевалась на наши встречи, — с обнаженными руками, в прозрачной блузке она была… ну, в общем, любой мог на месте потерять голову. Наверное, О'Келли бесновался из-за этого. Бадахос закинул ногу на ногу.
Эстефания соблазнительно повела головой и объявила, что урок окончен. Люди начали выходить, сдержанное самообладание, висевшее в воздухе, можно было потрогать руками. Профессор музыки, сидевший рядом со мной, поднялся. Бадахос двинулся к нему.
Я понял: все. Я понял: это катастрофа.
«Неграмотный профессор? — с отвратительно подлой ухмылкой осклабился Бадахос. — Это что-то новенькое. Поздравляю с патриотичным порывом научиться читать».
Профессор побледнел и провел языком по сухим губам. Но он хорошо держался в этой ситуации.
«Я недавно встретил одного, который никогда не учился. Услышав о школе сеньоры Эспинозы — она моя ученица, — я решил посмотреть, как тут обстоят дела прежде чем порекомендовать посещать ее».
«Ах так? И как его имя?»
Я порадовался, что остальные ушли, и проклинал себя, что у меня нет ножа.
«Жуан Пинту», — сказал профессор.
«Как оригинально, — скривил губы Бадахос. — А адрес?»
Адреса, который назвал профессор, не существовало. Они вызвали его к себе и задержали. Эстефания больше не вернулась домой. У О'Келли я тоже запретил ей жить.
«Будь благоразумен, — увещевал я Хорхе, — это слишком опасно. Если она провалится, заберут и тебя».
Я поселил ее у одной пожилой женщины.
Амадеу попросил меня зайти к нему в практику. У него состоялся разговор с Хорхе. Он был в полном замешательстве. Вернее, совершенно не в себе.
«Он хочет ее убить, — сказал он бесцветным голосом. — Нет, он выразился другими словами, но было ясно: он хочет убить Эстефанию. Чтобы ее память угасла раньше, чем ее схватят. Представь себе: мой давний друг Хорхе, мой лучший друг, мой единственный настоящий друг. Он совсем спятил, он хочет принести в жертву любимую. «Речь идет о многих жизнях», — снова и снова повторял он. Одну жизнь за многие — вот его счет. Помоги мне, ты должен мне помочь. Этого нельзя допустить».
Я всегда знал, а теперь убедился: Амадеу любил ее. Конечно, я не мог знать, как у них было с Фатимой, — я видел их вместе лишь тогда, в Брайтоне. И все-таки я уверен, что здесь все было по-другому: яростнее, неистовее — как раскаленная лава перед извержением. Амадеу был ходячий парадокс: уверенный в себе, бесстрашный в любой схватке, а под этим тонкая натура, постоянно чувствующая на себе пристальный взгляд других и от этого страдающая. По этой причине он и присоединился к нам — хотел очиститься от обвинений в спасении Мендиша. Думаю, Эстефания была его шансом выйти, наконец, из-под судилища на свободный горячий простор жизни, и на этот раз жить, следуя своим желаниям, своим страстям, — и к черту всех остальных.
Читать дальше