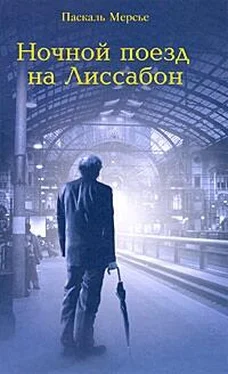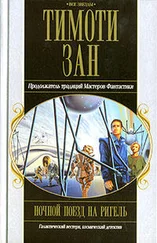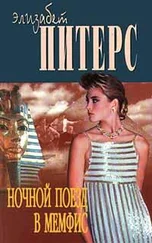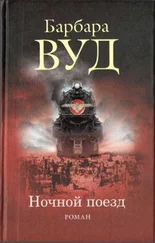Когда меня выпустили, я навел справки о профессоре. Со дня его ареста о нем никто больше не слышал. Эти изверги! Таррафал. Вы знаете о Таррафале? Я брал в расчет, что и меня туда отправят. Салазар одряхлел, и PIDE творила, что хотела. Думаю, помог случай, что я туда не попал, случай — брат произвола. Тогда бы я бился головой о стену камеры, пока не проломил ее — так я себе решил.
Повисла тишина. Грегориус не знал, что сказать.
В конце концов Эса встал и зажег свет. Он потер глаза и сделал первый ход, каким обычно начинал партию. Они доиграли до четвертого хода, как вдруг Эса отодвинул доску в сторону. Оба встали. Эса вынул руки из карманов вязаной кофты. Мужчины сделали шаг друг к другу и обнялись. Тело Эсы содрогнулось, глухой звериный звук вырвался из его горла. Потом он разом ослабел и прижался к Грегориусу. Грегориус погладил старика по голове. Когда он тихонько открывал дверь, Эса стоял у окна и смотрел в ночь.
Грегориус стоял в салоне дома Силвейры и рассматривал фотографии — ряд снимков с большого приема. Господа в визитках, дамы в длинных вечерних платьях со шлейфами по паркету. Жозе Антониу да Силвейра тоже был тут, моложе на много лет, в сопровождении своей жены, пышной блондинки, напомнившей Грегориусу Аниту Экберг в Фонтана-ди-Треви в феллиниевской «Сладкой жизни». Детишки, семь или восемь, гонялись друг за другом под бесконечно длинным столом с закусками. Над одним из столов — фамильный герб: серебряный медведь с широкой красной лентой. На следующей фотографии все сидят в салоне и слушают игру молодой женщины за роялем, женщины алебастровой красоты, отдаленно напоминающей безымянную португалку на мосту Кирхенфельдбрюке.
После возвращения на виллу Грегориус долго сидел на кровати, дожидаясь, пока потрясение от прощания с Жуаном Эсой пойдет на убыль. Звериный возглас из его горла, немое рыдание, крик о помощи, воспоминания о пытках — все это никогда не стереть из его памяти. Ему хотелось заглотить в себя столько горячего чая, чтобы он смыл боль из груди Эсы.
Постепенно ему удалось сосредоточиться на деталях истории с Эстефанией Эспинозой.
Саламанка. Она стала доцентом в университете Саламанки. Вокзальная табличка с темным средневековым именем встала перед его глазами. Потом табличка пропала и появилась сцена, которую описал патер Бартоломеу, как О'Келли и женщина, не глядя друг на друга, подошли к могиле Праду и встали над ней. «То, что они избегали смотреть друг на друга, связывало их еще большей близостью, чем скрещенные взгляды».
Грегориус распаковал чемодан и поставил книги на полку. В доме было очень тихо. Жульета уже ушла, оставив на кухонном столе записку, где найти приготовленную еду. Грегориус еще никогда не бывал в доме вроде этого, и сейчас ему все здесь казалось запретным, даже шорох его шагов. Выключатель за выключателем он зажег повсюду свет. Столовая, где они вместе ужинали. Ванная. Даже в кабинет Силвейры он бросил короткий взгляд, чтобы тут же снова закрыть дверь.
И вот он стоит в салоне, где они пили кофе, и громко произносит «nobreza». Звучание слова понравилось ему, страшно понравилось, и он повторил его еще несколько раз. Он вдруг подумал, что и слово «аристократия» ему всегда нравилось, оно было наполнено проистекающим из него благородством. Другое дело девичья фамилия Флоранс Л'Аронж — она никогда не вызывала у него мысли об аристократичности, да и сама она не придавала ей особого значения. Люсьен фон Граффенрид: древний аристократический бернский род — тут Грегориусу приходит на ум безупречная структура песчаника или изгиб улицы Герехтихкайтгассе, [94] Gerechtigkeit — справедливость, законность (нем.).
вспоминается, что один из фон Граффенридов сыграл какую-то неясную роль в Бейруте.
И, разумеется, Эва фон Муральт, Неверояшка. Это была просто вечеринка одноклассников в ее доме — никакого сравнения с приемом на фотографиях Силвейры — и все-таки… «Невероятно!» — воскликнула Эва, когда кто-то из ребят спросил ее, правда ли, что титул можно купить. «Невероятно!» — воскликнула она и тогда, когда Грегориус под конец хотел вымыть посуду.
Коллекция пластинок Силвейры производила впечатление покрывшейся пылью, как будто тот период, когда музыка играла какую-то роль в его жизни, был давно позади. Грегориус нашел Берлиоза. «Летние ночи», «Прекрасная путешественница» и «Смерть Офелии» — вещи, которые любил Праду, потому что они напоминали ему о Фатиме. «Эстефания была его шансом выйти наконец из-под судилища на свободный горячий простор жизни».
Читать дальше