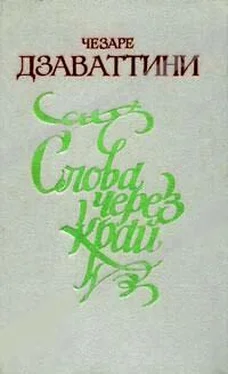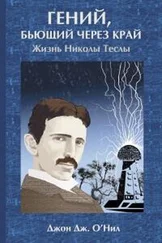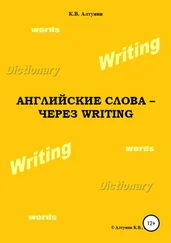С этой женщиной Энрико Т. встретился под сохранившимися в неприкосновенности портиками. У нее мало зубов, огромный зад, и ходит она, опираясь на руку служанки. Она сама его узнала, так как прослышала о его приезде, однако не без труда, и несколько секунд всматривалась в его лицо, в глаза, скрытые очками. Чувствуя некоторую скованность, они обменялись обычными вопросами: женат ли он, замужем ли она, как поживают родные. Джулия — вдова, но ее покойный муж — не тот юноша, что залез тогда ей под юбку, того она, наверно, даже и не помнит (в 1950 году он умер в Милане от цирроза печени). Энрико Т. она называет на «вы». Она считала, что он уехал в Америку. У него такое впечатление, что в ее взгляде мелькают злобные огоньки, словно она винит его в своей старости, как всегда бывает, когда встречаешься с тем, кого не видел очень давно.
Энрико Т. послал открытку сослуживцу в Тренто, поспорил за столом в траттории, утверждая, что умение со вкусом поесть нынче в его селении в упадке; правда, сортиры стали чище и четверо из десяти имеют свой автомобиль, однако, говорит он уже в сильном подпитии, все вы такие же скряги, как прежде. Около полуночи после еще одного стакана ламбруско его вдруг впервые в жизни охватывает желание открыть душу кому-нибудь из своих ровесников, рассказать о своих бесконечных и тайных страданиях, о незабытой обиде. Но все же остерегается это делать и беседует вообще о жизни. Когда он отсюда уезжал, помещичьи сынки ходили в черной фашистской форме, а женщины — в шелках. В то время он придерживался социалистических убеждений, но потом и сам не заметил, как они испарились. Теперь, когда он входит на выборах в кабину, то отмечает карандашом эмблему партии, хотя и знает, что партия эта — не его, а навязана ему другими, сам он не состоит ни в какой партии. В политике он словно лишился обоняния и осязания. Его считают консерватором, потому что он состоятельный. Все с ним здороваются так, словно каждый его поступок продиктован осознанной ответственностью, более того — он снискал славу прекрасного человека, и даже его сыновья, не разделяющие его взглядов, относятся к нему с уважением, как к молчаливому патриарху.
Однажды во время бомбежки, сеявшей смерть и разрушение, ему хотелось закричать: «Плюньте мне в рожу, но я думаю весь вечер только о ней, о ней, о ней!» В тяжелые моменты это переживание, такое личное, одолевало его с еще большей силой, оно заполняло его, он корил себя за него, словно за какую-то вину, но в конце концов корить перестал, а вновь и вновь оживлял свое воспоминание, тая смутную надежду, что, бог знает как, он все же сумеет его изменить.
Болтая о том о сем, он вдруг слышит — это звучит для него как откровение, — что поле его мук, та биолька [7] Биолька (или бифолька) — земельная мера, равная древнеримскому югеру (2500 кв. м.).
скудной земли, сейчас продается. И, неизвестно почему, Энрико приходит в голову купить ее.
Рано утром наш Энрико Т. с напускным равнодушием отправляется посмотреть продающуюся землю. Он говорит — но это ложь;— что, если ему продадут участок, он здесь построит дом, чтобы окончить в нем свои дни, дай бог, чтобы это произошло по возможности не скоро (жена, родом из Фриули, наоборот, уговаривала его купить место для погребения в Удине).
В действительности же ему кажется, что покупка этого земельного участка избавит его от мучительного кошмара или хоть как-то исправит, облегчит то нестерпимое положение, в котором он пребывает с 1921 года. Нет, он никогда не мог согласиться с тем, что тогда все произошло до конца: он ведь всегда останавливал свое воображение в тот момент, когда рука соперника, гладившая платье любимой, была готова коснуться ее тела. Это неправда, этого не могло быть. Почему не могло? Да потому, что ему всегда удавалось задержать эту руку, помешать ее скольжению к потаенной цели, — скольжению, которое не оставило бы ему уже никаких иллюзий.
Давая задаток, весь захваченный своеобразной логикой своего поступка, он на мгновение позабыл об истинной побудительной причине сделки. Однако он не только не дал больше того, что с него запросили, но даже сумел кое-что выторговать.
Теперь он один на этом поле и озирается по сторонам. То же время года, холодно, испуганные его неподвижностью воробьи беспокойно перелетают с одного дерева на другое, дополняя сходство картины. Точно так же, как тогда, над кустами проплывают шляпы прохожих. Фотография этого места с одинаковым успехом могла бы быть датирована и двадцать первым, и сорок шестым годом. Он страдает, прокручивает то в одну, то в другую сторону ту сцену внутри и вне себя. Так делают спортивные телекомментаторы, ведя воскресные передачи с футбольных матчей чемпионата на первенство страны. Среди множества гипотез в его мозгу мелькает и следующая: если бы Джулия, даже такая, какой стала теперь, передвигающаяся с таким трудом, что вот-вот рассыпется, с подбородком, поросшим волосами, пришла сейчас сюда, то и она, увидев его страдания, постаралась бы как-то переиграть эту сцену, зачеркнуть ее, уничтожить. Энрико мысленно видит ее стоящей здесь, переносится из сегодняшнего для в прошлое и обратно с ловкостью писателя, хотя он был бы не в состоянии выразить обуревающие его чувства на листе бумаги (однако не стоит исключать это с такой уверенностью).
Читать дальше