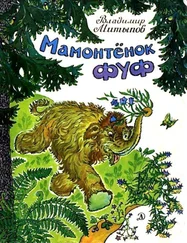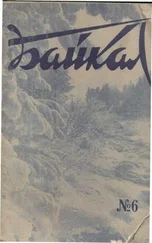— Ты вот что… зайди-ка завтра ко мне. Посоветуемся…
«…В чем же моя ошибка? Что я упустил, не учел?.. Двадцать три… двадцать четыре… двадцать пять… Или вовсе не во мне дело, а в Стрелецком? Маг структурной геологии… Самое главное, с его стороны так и не было никакого ответа, никакого возражения по существу!.. Двадцать девять… тридцать… А за вертолет-то меня взгреют крепко, ибо побежденных судят, и с большим притом удовольствием… Сорок четыре… Да, разговора не получилось… Вопрос: почему? Может, я показался ему, маститому ученому, просто-напросто нахальным мальчишкой? Но извините, ведь перед истиной-то мы все равны… Шестьдесят шесть… шестьдесят семь… Итак, член-корреспондент не снизошли до делового разговора. Но ведь что здесь характерно, товарищ член-корреспондент: тем самым вы показали свое неуважение отнюдь не ко мне, нет (за что же вам, в самом-то деле, вдруг уважать меня — не за явное же нахальство!), а показали вы неуважение к предмету разговора, вот что!.. Девяносто восемь… девяносто девять… И это, как ни странно, даже радует меня, потому что, если б вы опровергли меня в ходе серьезного разговора — вот тогда я действительно был бы убит, раздавлен, уничтожен. А так — дышать еще можно… Сто двадцать — стоп: двести!» Валентин замер как вкопанный, даже не поняв сначала, зачем он это сделал, однако миг спустя до него дошло, что он на ходу непроизвольно считал свои шаги, вернее, пары шагов, когда счет идет только под одну какую-либо ногу — левую или правую. Это было знакомо: во время маршрутов в закрытых районах, когда кругом лес и для привязки нет таких ориентиров, которые отмечены на карте и одновременно издалека видны на местности, приходится направление движения выдерживать строго по компасу, а пройденное расстояние отмерять шагами. И если это делать изо дня в день на протяжении полумесяца, месяца и более, то поневоле какой-то участочек мозга становится как бы спидометром, автоматически отсчитывающим каждый второй шаг. Валентин обычно вел счет под левую ногу. Сто двадцать пар его шагов по ровной местности составляли двести метров, что давно уже было выверено, но, поднимаясь в гору или спускаясь, приходилось, разумеется, вводить соответствующие поправки, зависящие от угла склона и тоже надежно выверенные. Все эти простейшие умственные операции: прикидка на глазок угла склона, выбор поправки, счет шагам и пересчет их в метры по ходу маршрута — к концу сезона настолько входили в привычку, что и после возвращения с полевых работ продолжали еще некоторое время сами по себе совершаться в мозгу…
Немного подождав на остановке, Валентин сел в трамвай. Пока расшатанные вагоны, гремя, как пустое ведро, и нестерпимо визжа на поворотах, тащились в заречную часть города, он дотошно перебрал в памяти весь разговор в гостинице и заключил, что в общем-то вся его затея была заранее обречена на неудачу. Но во всей неумолимо четкой последовательности случившегося было одно смутное место (именно тогда на какой-то миг Валентин был готов допустить возможность успеха) — момент, когда Стрелецкий, буквально окаменев, замер у окна. Валентин подсознательно ощутил некую важность этого мимолетного и как бы незначительного эпизода, однако же никакого разумного объяснения ему подыскать не мог…
Заверяя сегодня Лиханова и Ревякина, что с отцом все в порядке, он оба раза сказал неправду. С отцом вовсе не было все в порядке — отец его, Даниил Данилович, лежал сейчас в больнице с инфарктом, и третий звонок Валентина из аэропорта был именно туда — врачу Евгению Михайловичу, старому отцову приятелю.
Когда он, беспечно посвистывая, взбегал с сумкой через плечо на третий этаж, никто не поверил бы, что у этого молодого человека несчастье с отцом, что по важнейшим и давно выношенным надеждам его менее часа назад нанесен убийственный удар и что за вчерашний день и сегодняшнее утро он прошел пешком по тайге в общей сложности около восьмидесяти километров.
Открыв квартиру отца своим ключом, Валентин вошел в полутемную прихожую, огляделся… Здесь все оставалось таким же, как и во все предыдущие его приезды, — висели те же куртки, меховая и брезентовая, брезентовый же дождевик, пальто, плащ, стояли два вьючных ящика, сложенная раскладная койка, старое трюмо. И однако же в безмолвии и прохладе квартиры улавливалось что-то новое, нежилое, приводящее на память образ забытой пыльной бутылки, в которой тусклая вода мертво стоит над белесым ватным осадком.
Читать дальше
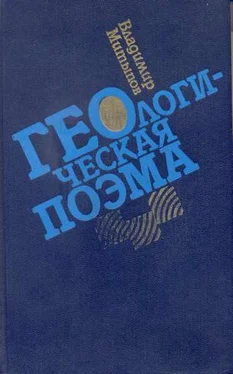
![Владимир Митыпов - Мамонтенок Фуф [журнальный вариант]](/books/30130/vladimir-mitypov-mamontenok-fuf-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)