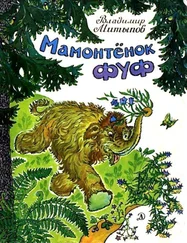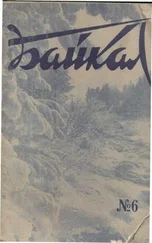— Поймите, я всегда был убежден… и всегда говорил… Нет, пусть это даже как-то по-газетному, но ведь это же правда, что в геологии — и подвигов, и героизма нету разве?.. И быть геологом — дело непростое… Я ж по себе знаю, поскольку сам прошел через разное… И за все годы никогда не усомнился, не пожалел… Но теперь вижу: одно дело, когда ты сам… с тобой… и совсем другое — когда дочь… тем более одна…
Он оборвал себя и как-то слепо, машинально шагнул к двери, однако сразу же спохватился и поспешно сделал движение назад.
— Извини, Валентин, я все о себе да о себе… Тебе сейчас очень трудно, понимаю. Потерять отца… и в такой момент… В управлении мне сказали… Так что прими соболезнование, Валентин… от всего сердца…
Дальнейшее было расколото на какие-то куски. Запомнилось лицо Кнорозова, застывшее, с округлившимися глазами. Запомнился сосед, каким-то образом проснувшийся и полусидевший на своей койке в очень нелепой позе, с нелепо вытянутой рукой. И еще — окно, почему-то переместившееся на потолок и выходящее прямо в ослепительно голубое небо с белейшими клочками облаков. И среди всего этого был какой-то миг, когда он сам стоял, кажется, на неудержимо заваливающемся полу и бессвязно что-то выкрикивал — что-то вроде того: «Что? Как? Как вы сказали?» Но ручаться за это он не мог, потому что дальше все обрывалось в темноту…
К себе, на заброшенный прииск Нюрундукан, они вернулись уже под арктическим светом круглой луны. Природа в этот час словно бы задалась целью показать, какую живопись можно размахнуть на основе всего лишь трех цветов — белого, черного и голубого. Голубовато-черное небо и белая луна. Черно-голубая тайга и белый снег. А между ними — не выразимые никакими словами переходы. «Сплошной пейзаж Рериха», — вспомнил Валентин слова Романа, сказанные им о Памире, а вспомнив — подумал, что сам он вот эту лунную ночь в тайге по цвету и лаконичности уподобил бы северным пейзажам Кента.
Псы, еще издали зачуяв их приближение, подняли лай. Прислушиваясь к нему, Валентин вдруг подумал: «Какой же, к чертям, лай — это же прямо слова какие-то, фразы!» Особенная ли выразительность тишины была тому причиной или же вообще все колдовское и необъятное лунно-снежное сияние, при котором «и невозможное возможно», но псы и в самом деле не лаяли, а издали добродушно выговаривали понятное без всякого перевода: «И чего вы где-то шляетесь, чудаки, когда здесь так изумительно хорошо, уютно, и светятся окна, и дым валит из трубы, и из дверей доносятся вкуснейшие в мире запахи!»
Нюрундукан был оставлен вскоре после войны — иссякло золото. Остались дома, очень пригодившиеся, когда нынче ранней осенью понадобилось организовать здесь базу разведочного участка. Больших трудов это не стоило — из пяти сохранившихся изб подремонтировали две, наиболее исправные, и база была готова. В одной избе разместился Валентин с рабочими-горняками, а во второй устроили склад, при котором по-семейному домовито зажили взрывник и его жена, исполнявшая обязанности кладовщицы и поварихи.
На Нюрундукан Валентин попросился сразу же после больницы, где пролежал до середины сентября. Он должен был выписаться значительно раньше, но случился Олег Григорьевич Кнорозов, неосторожно сообщивший Валентину то, что в тот момент от него тщательно скрывали. Не помня себя, он тогда рванулся, вскочил с койки, и результатом стала уже повторная травма головы и что-то там еще, даже медикам не до конца понятное. После того Валентин захандрил, замкнулся, ушел в себя. Приходившие проведать его из экспедиции уходили очень скоро, обескураженно пожимая плечами. Все их попытки как-то разговорить, подбодрить Валентина тут же и никли, наткнувшись на равнодушное молчанье и пустой взгляд. В экспедиции начинали поговаривать о том, что парень, мол, «повредился головой». Искренне сочувствовали. Оживлялся Валентин только при появлении Катюши, а она неприметно стала приходить не просто часто, но, можно сказать, зачастила. Это тоже было отмечено в экспедиции, и делались разные предположения.
Уже незадолго до его выписки пришел Гомбоич, до этого уже наведывавшийся пару раз. Он был серьезен, весь сосредоточен на какой-то мысли, с собой не принес ничего, что принято носить лежащим в больнице. Присел возле койки, молчал, вздыхая и поглядывая за окно, потом позвал на улицу. Вышли. В дальнем углу больничного двора лежали приготовленные для зимы чурки дров — на них и расположились. Место оказалось уютным, прикрытым от ветра, да и день выдался по-особенному тихим, почти жарким, какие иногда вдруг случаются среди северной осени. Гомбоич повел было речь издали, но — бесхитростная душа — сбился, замялся и, видимо, махнув внутренне рукой, напрямик спросил, насколько правда то, о чем уже не первый день шушукаются экспедиционные женщины.
Читать дальше
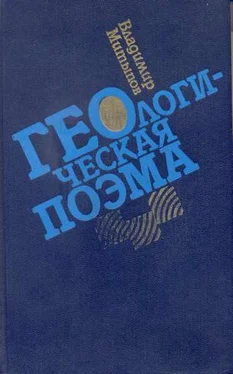
![Владимир Митыпов - Мамонтенок Фуф [журнальный вариант]](/books/30130/vladimir-mitypov-mamontenok-fuf-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)