Меня уложили на носилки и вкатили в эту одиночную камеру. Doctor ord. шепнул, что здесь мне будет много лучше. Всю ночь я полулежал, полусидел, в груди хрипело… Коленки дрожали, я ждал, что будет дальше… Слава богу, кровотечение не повторилось. Существо в белом облачении, которое дремало рядом, подготовилось к нему, под рукой у нее лежали всевозможные инструменты. Подготовился и я… Жаль мне моих поваренных книг, жаль моих тридцати лет. Ничего еще не исполнено, ничего не сделано.
Во всяком санатории есть свой чулан для умирания, о чем известно каждому. Один лишь doctor ord. не имел об этом представления, потому как шепнул мне: вам тут будет много лучше. Бог с ним, пускай помрет в неведении. Останься во мне хоть немного пороху, я бы, конечно, не допустил такого, но после вчерашнего кровотечения я не могу даже пошевелить рукой, куда там сопротивляться физическому насилию. Я позволяю, пускай творят со мной, что хотят… Ох ты немочь безотдышная! Фу! Боюсь кашлянуть, а в грудных черевах щекочет и зудит. Постараюсь не думать.
Сколько времени лежу я скорбен? Полгода, год? Время для меня смешалось — доныне была сплошная черная ночь. Говорят, будто я провалялся в беспамятстве больше месяца. Лежал в бывшем госпитале немецких диаконис на Мирной. Почему у диаконис? Удар был классный: три раза нож вонзился между ребер, причинив тяжелые повреждения телес, за коими последовали осложнения: пневмоническая двусторонняя вспышка туберкулеза. Где я мог заразиться чахоткой? Быть может, в тот раз, когда Маргарита одарила меня своим предсмертным поцелуем? Не все ли теперь равно?.. Сам о том не ведая, я барахтался между жизнью и смертью. Как на диво, мой организм и врожденная сила сопротивления сумели за последние два месяца одолеть злую немочь, если не считать каверны в конце левого грудного черева. Я взыграл духом и тешил себя надеждой на операцию, каковая снова возвратит меня к жизни. Однако вчерашнее кровотечение перечеркнуло все мои чаяния. О несчастный! Именно сейчас, когда мне предлагают работу, когда я мог бы взяться за свою «П.П.П.», когда луч солнца проник в мое серое печальное одиночество, разве это не величайшее из несчастий?
Несколько дней назад в санатории распространились смутни, будто там, снаружи, в большом мире, что-то происходит. Мы здесь от всего отстранились и поэтому не имели ни малейшего понятия, что именно. У больных отбирали наушники, лекари куда-то разбежались, сестрицы в белых одеяниях сновали оторопелые и рассеянные. Неизвестно почему, но мы уже целую неделю не получали на газет, ни писем, хотя санаторий, окруженный лесами, стоявший на тихом и уединенном крутце Гауи, находился всего в сорока километрах от Риги.
Третьего дня я лежа начал работать — положил на грудь фанерку и попытался писать adagio для струнного квартета, отмечал также на полях «П.П.П.», что подлежит изменению, набрасывал свои тезисы, делал nota bene на предмет дальнейших разработок, как вдруг мое состояние резко ухудшилось. Поднялась температура, меня прошиб пот, и врач на мои занятия наложил запрет. Вот тебе бабушка и юрьев день! Я впал в жестокое уныние. Изъясняясь жаргоном здешних чертогов, меня скрутила мерихлюндия. Мало того, мучайся тут безвестностью, когда Риге бог знает что творится. Не то мятежники лютуют против диктатуры, не то там переворот… Я лежал лежне раздавленный проклятием десяти лет, которые связал меня долгом играть роль Мефисто, одарили несчастной любовью и лишили меня самого дорогого…
На исходе тихого часа вошла санитарка и сообщила, что явились мои товарищи по ученым занятиям и требуют, чтобы их впустили.
Doctor ord., правда, предупредил, что больной сильно занедужил и занемог, но настырники не отстают. Как быть?
Я возрадовался, что гости меня отвлекут, расскажут что деется в Риге, и потому попросил их не выпроваживать — пускай приходят в мою келью, ответственность беру на себя.
В комнату ввалились Брандер, Фрош, Цалитис, за ними Сомерсет, все взволнованные, все чем-то встревоженные.
— Привет тебе, грешная плоть! — с преувеличенной удалью еще издали кричит Цалитис. — Наверное, не чаял нас увидеть? Лежит тут, понимаешь, и жир нагуливает!
Все плюхаются на край моей коечки. Лежак аж прогибается. Янка Сомерсет, однако, примечает в углу скамеечку; берет и присаживается. Он — мой лучший друг студенческих лет! Те другие — лоботрясы и проказники. Янка, напротив, всегда был авторитетом: непобедимый фехтовальщик, к тому же magister cantandi, кончил консерваторию по классу фортепьяно, ныне штудирует математику (два года проучился во Франции — в Туркуэнском лицее), у него состоятельные родители — отцу в Латгалии принадлежит мукомольня и хутор. Граф Левендрек — кличем мы Янку. Обветренный лик графа темен, видно, только что прикатил, коломыка, из своей Латгалии. Меня свербит любопытство — что же все-таки стряслось в Риге? Выкладывайте наконец!
Читать дальше
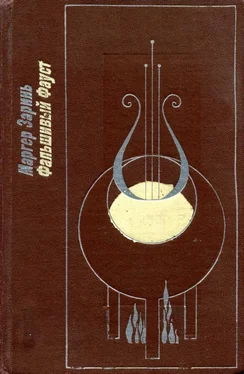





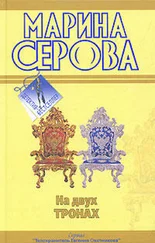


![Александр Ирвин - Tom Clancy’s The Division 2. Фальшивый рассвет [litres]](/books/417744/aleksandr-irvin-tom-clancy-s-the-division-2-falsh-thumb.webp)

