Соль трубных звуков ножом разрезает тишину. Вскрик! Все стихает. Остается лишь невнятный гул голосов, кто-то дергает меня за плечо…
Оглядываюсь окрест.
Подушка залита кровью. А может, это сок?
Почему такие испуганные лица, зачем белые подставки, укол в локоть, резиновые шланги вокруг запястий, мне же больно!
На груди пузырь со льдом. Леонора вытирает мне губы. Я задыхаюсь, Леонора! Куда вы везете меня?
Мне нельзя говорить? Шевелиться? Должно быть, стряслось что-то ужасное… Сколько сочувственных глаз. А может, мне блазнится? Или мигают свечи? Свечи в канделябрах, гиацинты, еловые венки.
Ворочаю глазами (крутить головой — упаси бог) — нет, свечей не видать, венков тоже, — похоже, пронесло… временно пронесло. В Депфорте на Темзе сейчас, наверно, непроглядный туман.
Одна ночь, вторая, третья.
Стояла сплошная черная ночь, затем на экране зашевелилось оранжевое пятнышко, которое становилось все светлее и светлее. Хлопнула дверь, и Леонора, бдевшая всю ночь возле меня, вернулась.
Дышать стало посвободнее, мне кажется, то больше не повторится. Леонора тоже так считает. Бледную старицу с косой на плече я в очередной раз обвел вокруг пальца.
Ничего не поделаешь, madame, я двужильный, как ольховая вица, крепкий, как стальной кистень.
В окно задувает полуденник, из леса доносится тафельмузыка. Дорогая Леонора, дайте мне что-нибудь пожевать. Мне опостылела ваша дрожалка из листьев аира, попрошу на завтрак принести что-нибудь посущественнее, скажем, фрикандо из бычьих хвостов, знаете, как его готовят?
«Возьми бычьи хвосты, разруби на мелкие глызки: поклади масло в особый котел с крышкой, затем швырни туда крошатку из хвостов с мелко нарезанным чесноком влей стакан ишпанского соку и добавь одну шевырку льняного масла… держи на слабом огне, пускай кипит, пока не побуреет и не разварится».
Не болтать? Сестрица, это самый достоверный рецепт… Леонора, дорогая Леонора, не будьте букой, я сей же час замолчу, разрешите только дотронуться до вас… Ну почему я грубиян? Ваш волосник с красным крестиком посредине почему-то сегодня съехал набок. Первое апреля, никому не верь. Что, уже июнь? Кто бы подумал! Когда у вас именины? Точка. Я устал. Закрываю глаза. Сколько остроумия за столь короткое время!
Уж если меня не угробили жестокие удары ножом (финку, которую нашли рядом, следователь подарил мне; я вожу ее с собой как сувенир), было бы нелепо умереть в одиночной камере — верно я говорю, сестричка?
В шутку я частенько болтал: мой век, дескать, оборвется в возрасте двадцати девяти лет. Поскольку я начитался писанины оккультных ворожеев о переселении душ, то свято верил, что душа Кристофера Марло спустя триста пятьдесят лет выбрала плотью мое тело. Я сам себе это внушил, находя в подобных кудесах оправдание своим проделкам. А обернулись мои игры гибелью Мефистофеля, не Фауста. Брат мой, белый человек из кентерберийских низов, не смейся: со всяким может случиться…
«Не поминай зря сатану», — учила меня бабушка, а я забыл. На этот раз еще уцелел, вместо меня к шишигам в преисподнюю поволокли бедную Маргариту.
Душа болит за растраченную молодость. Мне пошел тридцать первый — что я успел? Колоброд и шатыга, сочинял студенческие песни, бил мензурки и бился до чертиков на дуэлях. В остальное время предавался мечтам. Леонора спрашивает, что у меня за рубец от глаз до уголка губ. Это память от рапиры Брандера, говорю. А может, мне это приснилось?
Приснилось, приснилось, приснилось…
Ветер колыхнул занавеску. Леонора спрашивает, не надо ли мне скляницу. Как романтично! Я трясу головой. Нет, сейчас еще не надо. «Ich grolle nicht». Не сочинить ли нам концерт для скляничного ксилофона, чем больше в каждой посудине жидкости, тем выше тон. Коль скоро с умом напи́саешь в двенадцать скляниц, получишь всю хроматическую гамму, времени на это хватит. Если не случится, что я уйду в небытие. Не-бы-тие… Жуткое слово, лучше уж в преисподнюю, там, по крайней мере, жар и шишиги, — естественно, когда начнут щекотать вилами, не возрадуешься, но ко всему привыкают. Небытие — это мерзко, недаром старушки ходят причащаться, церковь обещает, на худой конец, хоть котлы с варотоком. А что сулит нам естествознание? Что — Эйнштейн? Кому теперь достанется труд моей жизни «П.П.П.»? Сейчас я мог бы написать лучше, глаза мои стали зорче, я вкусил плоды с древа познания и подверг себя переоценке. Сочинительством следует заниматься лишь тогда, когда исходил все хляби, облазил все углы ада, когда вдоволь наездился на оранжевых облаках, пообжег пальцы у солнечных костров, хватая из пепла сверкающие блестки. Я слышу, как стонут скрипки, слышу трубный зов, визг кларнетов — это все принадлежит мне, там высекает искры моя мысль, хейя, хейса!
Читать дальше
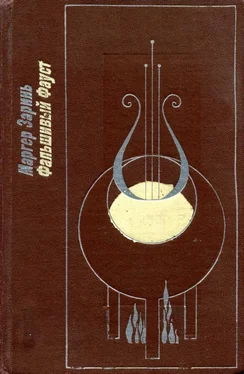





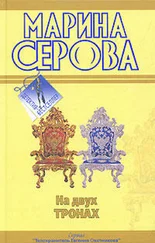


![Александр Ирвин - Tom Clancy’s The Division 2. Фальшивый рассвет [litres]](/books/417744/aleksandr-irvin-tom-clancy-s-the-division-2-falsh-thumb.webp)

